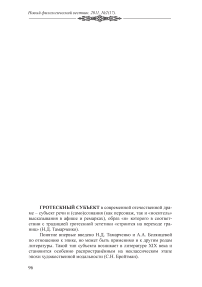Гротескный субъект
Автор: Лагода Мария Александровна, Павлов Андрей Михайлович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Экспериментальный словарь русской драматургии рубежа XX-XXIвв. (подготовительные материалы)
Статья в выпуске: 2 (17), 2011 года.
Бесплатный доступ
В данной рубрике представлены обоснование проекта создания «Экспериментального словаря русской драматургии XX - XXI веков» и подготовительные материалы - словарные статьи, работа над которым уже началась.
Вербатим, героическое, гротескный субъект, заглавие, катастрофа, неосинкритизм драматический, "новая драма", перипетия, постдраматический театр, речь персонажей, сюжет драматический, фантастическое
Короткий адрес: https://sciup.org/14914290
IDR: 14914290
Текст научной статьи Гротескный субъект
Понятие впервые введено Н.Д. Тамарченко и А.А. Белянцевой по отношению к эпике, но может быть применимо и к другим родам литературы. Такой тип субъекта возникает в литературе XIX века и становится особенно распространённым на неклассическом этапе эпохи художественной модальности (С.Н. Бройтман).
Развивая мысль М.М. Бахтина о со- и противопоставлении классической «эстетики готового, завершённого бытия» и гротескного типа образности, то есть эстетики становления, Н.Д. Тамарченко и А.А. Белянцева полагают, что аналоги классического и гротескного образа тела существуют и в субъектной структуре литературного произведения. Так, в эпическом произведении классическая норма требует наличия «оправы» кругозоров персонажей, которая «выражается в кругозоре повествователя, объемлющем видение персонажей» (Тамарченко, Белянцева, с.18). В драме подобная чёткость границ сознания героя возникает при авторской установке на создание единства драматического характера, что свойственно классическому идеалу. См., например, у Г. Гегеля: «индивид в драме должен <…> представлять законченную целостность, а умонастроение и характер его должны гармонировать с его целями и поступками» (Гегель, с. 558).
Появление Г. с. – один из векторов развития гротескного типа об-разности,когдагротескныйпринциппостроенияхудожественногоцелого распространяется и на субъектную структуру произведения. Такого рода субъект мог возникнуть только в литературе нового времени, поскольку «почвой»дляегопоявлениястановится«открытиесамоценнойличности» (С.Н. Бройтман). Субъекта, «не совпадающего с собой как с субъектом» (Н.Д. Тамарченко, А.А. Белянцева), мы находим уже в некоторых образцах драматургии классического периода эпохи художественной модальности. Так, в романтических пьесах-сказках (таких, как «Кот в сапогах» Л. Тика, «Принцесса Бландина» Э.Т.А. Гофмана) появляются персонажи, которые «выпадают» из своей роли: они знают о том, что находятся на сцене и позволяют себе соответствующие комментарии. В эпоху классического реализма у отдельных авторов также встречаются драматические произведения, созданные в соответствии с эстетикой гротеска, в том числе такие, где появляется гротескный субъект. Например, если в драме-мистерии Г. Флобера «Искушение св. Антония» гротеск является доминантой субъектной архитектоники произведения, то в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» лишь один эпизод строится на этой доминанте: «Чему смеётесь? – Над собою смеётесь!..». Б.О. Корман указывает на то, что в этом знаменитом монологе городничего, «хотя формально текст <…> принадлежит Сквозник-Дмухановскому, но мы явственно ощущаем, что в нём нашло выражение принципиально иное сознание, несомненно, отличное от сознания героя» (Корман, с.11).
Таким образом, в классический период эпохи художественной модальности начинаются процессы перестройки субъектной структуры драмы, появляется, в частности, гротескный образ «я» персонажа. Это связано с критической переоценкой картины мира, существовавшей в рамках традиционалистской культуры, и попытками расширения возможностей читательско-зрительского «поведения». Однако в рамках данного историко-литературного этапа подобные драматурги- ческие высказывания не являются характерной приметой литературной практики.
Открытие на рубеже XIX – XX вв. нового понимания личности (не как монологического единства, а как двуединства «я – другой» (С.Н. Бройтман)) ведёт к дальнейшей перестройке субъектной структуры драмы. Герой неклассической драмы уже не может «нераздельно сомкнуться с какой-то особенной стороной <…> устойчивого жизненного содержания, отвечающей его индивидуальности» (Гегель, с. 575), поскольку само это «жизненное содержание» тоже осознано как принципиально неготовое, становящееся, не позволяющее индивиду окончательно «срастись» с одной из его форм.
Г. с. является одним из вариантов такого неклассического субъекта в драме. Подобная архитектоника может быть обнаружена, например, в символистской драме, в «эпическом театре» Б. Брехта, у Л. Пиранделло («Шестеро персонажей в поисках автора»), в драматических произведениях Е. Шварца, в ряде пьес, традиционно причисляемых к драме театра абсурда, в «гротескных драмах» Ж. Ануя (например, в «Жаворонке») и т.д.
Понятие Г. с., а также соотносимое с ним понятие «субъектного неосинкретизма» (С.Н. Бройтман) (см. Неосинкретизм драматический ), могут служить одним из «ключей» к пониманию и описанию поэтики новейшей отечественной драматургии. В современных пьесах весьма популярны субъектные структуры, в основе которых – исчезновение тех границ кругозора субъектов, сохранение которых обеспечивало бы их идентичность. Появление такого типа субъекта в новейших пьесах является формой художественного «проговаривания» современного понимания личности и обусловлено тем, что один из главных предметов художественной рефлексии в них – кризис идентичности (см.: конфликт драматический ) .
Г. с. вдраматическихпроизведенияхновейшихавторовможетбыть и персонаж пьесы, и субъект высказывания в афише, ремарках. Развивая тенденцию к размыванию границ между изображенным и реальным «мирами», современная пьеса продолжает выводить на сценическую площадку персонажа с «нестационарным» (С.Н. Бройтман) статусом, совмещающегопозициииучастникадействия, иего «свидетеляисудии» (М.М. Бахтин). Так, пьеса М. Покрасса «Не про говорённое» начинается с монолога Маши, первая фраза которого: «Все слова, которые здесь будут сказаны, написаны автором. Но мы, время от времени будем разговаривать и вести себя так, как будто это наши слова, и как будто мы это не мы, а кто-то другой, например, мама и дочка». В сюжетной плоскости пьесы М. Покрасса герои пытаются «собрать себя», чтобы не быть неопределёнными, «вялыми сгустками сомнений». При этом проблема «собирания себя» проникает и в субъектную архитектонику произведения, поскольку читатель/зритель сталкивается здесь с «не-стационарностью авторского и геройного планов».
«Размытыми» могут быть границы между сознаниями героев. В пьесе Н. Коляды «Рогатка» гротескная (даже телесно) пара персонажей (18-летний «благополучный» юноша и 33-летний пьющий безногий инвалид) в ходе своих напряжённых диалогов приходит к осознанию взаимной «похожести» и даже одинаковости («Мы с тобой сходимся. Во всем. Честное слово. Я с тобой как с самим собой разговариваю»), к обнаружению общего воспоминания из детства. В «Рогатке» одной из значимых композиционно-речевых форм являются сны. Таким образом, читатель/зритель произведения оказывается «зрителем» сна «другого», то есть кругозор читателя/зрителя начинает «совмещаться» с кругозором героя-сновидца, что обусловлено гротескной субъектной структурой пьесы. А сам персонаж-сновидец является еще и «действующим лицом» собственного сна, то есть видит себя как «другого» (например, заснувший в инвалидной коляске Илья в «первом сне» видит себя как бы «со стороны», причём во сне он «идет, улыбается счастливо, весело»).
«Мерцающей» в современных пьесах может оказаться граница между сознаниями «первичного субъекта речи» (Б.О. Корман), представленного в ремарках, и персонажа. Так, в пьесе И. Вырыпаева «Кислород» проявляется не только «зыбкость» границ между сознаниями «исполнителей» десяти «композиций», а также границ между «исполнителями» и героями этих «композиций» (и тех, и других зовут Сашами). Здесь также авторская и геройная ипостаси произведения оказываются «нестационарными», поскольку, помимо обозначенных пересечений субъектных сфер, «Он» и «Она» выходят «из роли» «исполнителей», когда выясняется, что «Он» – и автор, и режиссёр представляемого «акта», а «Она» – актриса, недовольная режиссурой, распределением ролей и претендующая на изменение «сценария».
Появление Г. с. в новейшей отечественной драме может быть связано не только с «двойничеством» персонажей, выведенных автором, или персонажей и «первичного субъекта речи», но и с отношением героя к себе как к «другому», с обнаружением «другого» в самом себе. Доминирующим в «построении» гротескного субъекта этот аспект является в пьесах П. Гладилина «Другой человек» и А. Строганова «Чайная церемония». В этих произведениях доводится до предела ситуация амнезии с целью обнажения противоречий, с которыми сталкивается современный человек, пытающийся обрести собственную идентичность. «Текучей» оказывается не только оценка персонажами неожиданно всплывающих в сознании эпизодов прошлого, но и само содержание этого прошлого (например, в «Другом человеке» под вопрос ставится: являются ли «он» и «она» мужем и женой, действительно ли «он» – пьющий музыкант, или убийца друга-банкира и т.п.). Можно говорить о гротескном преувеличении – несовпадении героев с самими собой не только в ценностно-смысловом плане, но и в фактическом, причём в «Чайной церемонии» это осложняется «сновидностью» мира пьесы («сон в двух действиях»), мистическими мотивами. В этих произведениях персонажи сталкиваются не с определённым и устойчивым «самим собой как с Другим (прошлым, настоящим и будущим)» (Болотян, Лавлинский, с. 14), но с «вероятностными» образами себя самого. Само «я» предстаёт «пульсирующим» и нестабильным, лишённым «утешительных гарантий» в собственной цельности (например, Борис из «Чайной церемонии» произносит: «Во всяком случае, не могу припомнить ничего такого, что доказало бы мне, что это я, а не кто-нибудь другой»).
Присутствие в драме Г. с. всегда связано с установкой на определённого рода рецептивную «провокативность». Если романтическая драма нацелена, главным образом, на разрушение стереотипов в творчестве и его восприятии, то современные пьесы с гротескно-субъектной архитектоникой не только «остраняют» читательский/зрительский опыт, ориентированный на эстетику завершённости, но и формируют особую рецептивную позицию, которая предполагает погружение воспринимающего субъекта в «кризисное» состояние вопроса, удивления, замешательства, то есть приближает его к необходимости собственной самоидентификации. По-видимому, пьесы подобного рода требуют гротескной манеры сценического воплощения, когда актёр играет как будто не одного персонажа, а нескольких.
Список литературы Гротескный субъект
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965
- Болотян И., Лавлинский С.П. «Карта» современной русской драмы: опыт типологии (на материале драматургии движения «Новая драма»)//«Сцена жизни» в русской драме XX века. Часть III. Поэтика современной русской драмы. М., 2008
- Теория литературы: Учеб. пособие: В 2 т./Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2: Бройтман С.Н Историческая поэтика. М., 2004. Т.2
- Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т.3. М., 1971
- Корман Б.О Практикум по изучению художественного произведения. Ижевск, 1977
- Смирнов И.П. Гротеск//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008
- Тамарченко Н.Д., Белянцева А.А. Гротескный субъект в литературном произведении (сюжет двойничества и изображающий субъект у Гофмана, Гоголя и Достоевского)//Литературное произведение: проблемы теории и анализа. Выпуск 2. Кемерово, 2003
- Тамарченко Н.Д. Гротескный субъект//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008