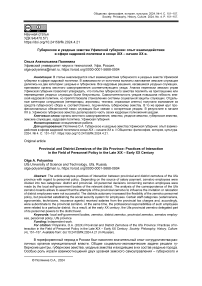Губернское и уездные земства Уфимской губернии: опыт взаимодействия в сфере кадровой политики в конце XIX - начале XX в
Автор: Полянина О.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется опыт взаимодействия губернского и уездных земств Уфимской губернии в сфере кадровой политики. В зависимости от источника выплаты жалования земские служащие делились на две категории: уездные и губернские. Все кадровые решения, касавшиеся уездных служащих, принимали органы местного самоуправления соответствующего уезда. Анализ переписки земских управ Уфимской губернии позволяет утверждать, что попытки губернского земства повлиять на приглашение или перемещение уездных служащих были безуспешны. Самостоятельность уездов повышала гибкость земской кадровой политики, но препятствовала становлению системы социальной защиты служащих. Отдельные категории сотрудников (ветеринары, агрономы, техники, страховые агенты) получали жалование из средств губернского сбора и, соответственно, подчинялись губернскому земству. В то же время круг профессиональных обязанностей таких служащих был связан с конкретным уездом. В результате в начале XX в. Уфимское губернское земство делегировало часть своих кадровых полномочий уездам.
Органы местного самоуправления, земство, уездное земство, губернское земство, земские служащие, кадровая политика, уфимская губерния
Короткий адрес: https://sciup.org/149145004
IDR: 149145004 | УДК: 94(470.57) | DOI: 10.24158/fik.2024.4.21
Текст научной статьи Губернское и уездные земства Уфимской губернии: опыт взаимодействия в сфере кадровой политики в конце XIX - начале XX в
Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия, ,
,
уездного. Необходимость актуализации этого опыта обусловлена крайней нестабильностью территориальной организации муниципальной власти в современной России. В настоящий момент в Российской Федерации идет подготовка к масштабной реформе местного самоуправления, и одной из ключевых проблем, требующих теоретического осмысления, становится координация деятельности муниципалитетов разных видов.
В большинстве научных работ, посвященных истории земского самоуправления, рассматривается совместный вклад губернских и уездных земств в развитие той или иной сферы. Вместе с тем отдельные уездные земства также становятся самостоятельным объектом анализа. Внимание исследователей, как правило, привлекает деятельность уездных земств в сфере народного образования, здравоохранения, сельского хозяйства. В значительно меньшей степени изучены проблемы взаимоотношений губернских и уездных земств.
Популярность получила точка зрения Б.Б. Веселовского, полагавшего, что губернские земства являлись «регуляторами деятельности» уездных земских учреждений, были «подспорьем для уездных земств в случае нужды» (1911: 418). Из дореволюционных авторов о диктате губернского земства и излишней зависимости уездов писал К.Н. Пасхалов, но его брошюры носили ярко выраженный публицистический характер (1910: 5–8). Современные исследователи, в частности Р.Р. Мустафин, отмечают значительное количество конфликтов между двумя уровнями земского самоуправления1.
На материалах Уфимской губернии указанную тему рассматривали А.В. Беседовская и Г.Б. Азаматова. А.В. Беседовская в диссертационном исследовании выявила две основные причины конфликтов между губернскими и уездными земствами Южного Урала: распределение суммы земского сбора и ремонт дорог2. В монографии Г.Б. Азаматовой приведена подробная характеристика каждого уездного земства Уфимской губернии, включая социальный состав гласных и степень «достижения паритета деятельности распорядительных и исполнительных органов». Г.Б. Азаматова подчеркивает, что самостоятельность уездных земств лежала в основе модели земского налогообложения (2021: 115–119, 245).
Формы взаимодействия губернских и уездных земств в других сферах, в том числе кадровой, остаются недостаточно изученными. В рамках данной статьи предпринята попытка рассмотреть уездные земства Уфимской губернии как субъекты кадровой политики, оценить степень самостоятельности уездных собраний и управ при принятии кадровых решений (приглашении, увольнении, награждении земских служащих).
Основу источниковой базы по данной теме составили журналы заседаний земских собраний. Объединяя разные виды делопроизводственной документации, журналы позволяют проанализировать весь процесс принятия решений, сравнить позиции губернского и уездных земств. К неопубликованным источникам, которые характеризуют кадровую политику земств, относятся требовательные ведомости, формулярные списки, отчетность пенсионной кассы и т. д. Соответствующие документы сохранились как в фонде Уфимской губернской земской управы (Ф. И-132 Национального архива Республики Башкортостан), так и фондах уездных управ: Бирской (Ф. И-151 НА РБ), Уфимской (Ф. И-400 НА РБ), Златоустовской (Ф. И-11 Архива Златоустовского городского округа).
Ключевые принципы взаимодействия губернских и уездных органов местного самоуправления были закреплены в земских положениях 1864 и 1890 гг. Основанием для разграничения полномочий являлся масштаб управленческих задач. Общий перечень «предметов ведомства» земств содержался в ст. 2. Губернские земские учреждения могли принимать решения по вопросам, которые относились ко всей губернии или нескольким уездам, а уездные – по вопросам, касавшимся каждого отдельного уезда. В Земском положении 1864 г. данная норма была закреплена в ст. 61 и 633. Положение 1890 г. объединило их в рамках одной статьи (ст. 3), а также ввело новую статью, выстроенную по той же логике (ст. 62). Именно в ней впервые упоминаются некоторые кадровые функции. Так, «губернским собраниям в пределах губернии, а уездным в пределах уезда» предоставлялось реализовывать снабжение исполнительных органов «надлежащими инструкциями» и рассмотрение жалоб на служащих по земству лиц4.
Помимо этого оба нормативных акта содержали перечни дел, подведомственных тому или иному уровню власти «в особенности». К исключительной компетенции губернских собраний от- носились открытие новых ярмарок, устройство пристаней, издание обязательных постановлений, вопросы взаимного земского страхования и т. д. За уездами было первоначально закреплено семь предметов ведения, включая составление «предварительных предположений» для губернских смет, раскладку сборов внутри уезда. В Земском положении 1890 г. эта статья (ст. 64) была сокращена до трех пунктов. Уезды потеряли право определять статус дорог, содержать бечевники, разрешать открытие торгов и базаров.
Таким образом, губернские и уездные земства обладали равными правами по отношению к вольнонаемным служащим. Разделение служащих на губернских и уездных зависело от источника финансирования их деятельности. Представители «третьего элемента», которые получали жалование из средств уездного земского сбора, подчинялись уездным управам и собраниям. Соответственно, служащие, получавшие жалование за счет губернского земского сбора, находились в ведении губернского земства. При этом часть таких сотрудников работала непосредственно в губернской управе, а часть – в уездах, иногда на значительном расстоянии от центра.
Положение о губернских и уездных земских учреждениях было распространено на Уфимскую губернию по закону от 2 мая 1874 г.1 В состав губернии входили шесть уездов: Белебеев-ский, Бирский, Златоустовский, Мензелинский, Стерлитамакский и Уфимский. В первые годы работы земства многие управленческие процессы еще находились в стадии становления. Но разделение служащих на губернских и уездных оформилось практически сразу.
Осенью 1878 г. ревизионная комиссия, проверявшая финансовую отчетность Стерлитамакской уездной управы, отметила в качестве «упущения» выдачу наградных «некоему Кизильскому, получавшему жалование из губернского сбора»2. В том же году Мензелинская уездная управа отказалась предоставить бесплатные подводы для землемеров губернского земства, которые были командированы в уезд. «Вестник Уфимского земства» отметил, что «упорные пререкания» с губернской управой противоречат «духу общности и солидарности земских учреждений»3, но Мензелинская управа не изменила своего решения.
Коллегиальному обсуждению уездной управы подлежали вопросы приглашения и увольнения служащих, разрешение отпусков, составление должностных инструкций. К 1911 г. все уездные собрания Уфимской губернии утвердили штаты служащих в канцелярии своей управы. Каждой должности соответствовал перечень обязанностей и так называемый «нормальный» оклад4. Заметную часть работы составляли рассмотрение ходатайств, решение вопросов о назначении стипендий (самим служащим и их детям), различных пособий (на лечение, обучение, погребение). Уездные управы также налагали дисциплинарные взыскания и утверждали авансовые отчеты своих служащих5.
Прием и увольнение сотрудников, выплата им заработной платы требовали соответствующего документационного обеспечения. Уездные управы, как и губернская, вели переписку с претендентами на должности, занимались поиском специалистов через газеты или общественные организации. В том случае, когда сотрудник обладал правами государственной службы по чинопроизводству, необходимо было регулярно сообщать губернскому правлению сведения для внесения в формулярный список6. Уездные управы составляли требовательные ведомости на выдачу жалования своим служащим, собирали и подшивали расписки о его получении7. Отдельно велись списки служащих, имевших право на периодические прибавки, и тех, с кого удерживался квартирный налог8.
Если речь шла о расходах из средств уездного сбора, то губернская управа не располагала ни правовыми, ни административными механизмами влияния на кадровые решения уездных органов местного самоуправления. В 1911–1914 гг. Уфимская губернская управа неоднократно обращалась к уездам с просьбой принять учениц фельдшерско-акушерской школы в качестве практиканток в уездные больницы. Губернское земство при этом полагало, что после выпуска фельдшерицы «в большей своей части пойдут на службу в уездные земства». Ни одно из этих ходатайств не было удовлетворено в полном объеме. Бирский и Мензелинский уезды были готовы принять всего несколько человек. Златоустовская и Стерлитамакская управы приглашали для прохождения практики только своих стипендиаток, а Белебееевское земство традиционно заявляло о «неимении на это средств»9.
Прямым следствием независимой кадровой политики каждого уезда являлось отсутствие единой системы социальной защиты служащих. Различные подходы существовали, в частности, при назначении так называемых «периодических прибавок», т. е. дополнительных выплат за выслугу лет. Для сотрудников канцелярии Бирской уездной управы была введена периодическая прибавка в размере 12,5 % от последнего получаемого оклада. Необходимым условием был 5-летний стаж, причем для всех служащих, независимо от времени поступления в земство, отсчет начинался с 1907 г.1 В Стерлитамакском уезде размер прибавки составлял 10 % оклада через каждые 3 года, в Уфимском уезде – 12,5 %. Земские гласные Мензелинского уезда изучили опыт соседей, но оказались менее щедрыми. В 1910 г. собрание утвердило три 10 %-х прибавки через 5 лет каждая2.
Как и во многих других регионах, отсутствие «единогласия среди уездов» стало «главным тормозом» на пути открытия пенсионной кассы для земских служащих (Веселовский, 1911: 482– 483). Начиная с 1881 г. Уфимское губернское земство регулярно поднимало вопрос о необходимости обеспечения сотрудников на случай утраты трудоспособности. Однако ни один из проектов не удавалось согласовать с уездами. В 1906 г., когда устав кассы был уже утвержден Министерством внутренних дел, уезды попытались вновь вернуть документ на доработку. Губернская управа собрала и процитировала постановления уездных земских собраний 1900 г., когда все они признали учреждение кассы «желательным», «необходимым», «полезным», и, таким образом, буквально настояла на нужном решении. Сопротивление продолжалось и после открытия кассы. Уезды не слишком аккуратно перечисляли взносы за своих служащих, общая сумма задолженности за 1908–1913 гг. возросла с 37 до 131 тыс. р. Финансовая отчетность, поступавшая из уездов в пенсионный отдел губернской управы, часто требовала дополнительной проверки и исправлений (Полянина, 2014: 42–43).
Еще одной формой социальной поддержки являлось «содержание в счет 13-го месяца» (наградные). Уфимское губернское земство выделяло на эти цели 1/12 от годового содержания служащих и объявляло о 13-м окладе уже в условиях найма. Уездные управы, как правило, не нарушали сложившуюся традицию, но принимали решение самостоятельно. В 1914 г. гласные Стерлитамакского уезда после продолжительного обсуждения закрытой баллотировкой отклонили предложение управы о выплате наградных3. Через год дискуссия возобновилась. Открывая прения по вопросу о наградных, гласный П.А. Кузнецов отметил, что в 1914 г. «все остальные земства губернии выдали своим служащим праздничные оклады». Тем не менее и в 1915 г. Стерлитамакское уездное земство отказалось ассигновать средства на выплату наградных4.
Переход служащего в другое земство (даже в пределах одной губернии) сопровождался такой же процедурой, как при первом приеме на должность. В результате вопросы о зачете стажа работы в другом земстве решались, как правило, в ручном режиме, что усложняло процесс получения различных пособий. Врач Яков Осипович Левицкий 17 лет служил в Бирском уездном земстве. В 1904 г. он перешел на работу в Уфимскую губернскую больницу, а последние 4 месяца жизни (до 20 июля 1906 г.) являлся эпидемическим врачом губернской управы. Поскольку стаж Я.О. Левицкого именно в губернском земстве был сравнительно невелик, его вдове выдали только месячное жалование мужа – 166 р.
Вопрос об увеличении этой суммы рассматривался на заседании Уфимского губернского земского собрания в декабре 1906 г. Гласный И.Г. Жуковский подтвердил бедственное положение осиротевшей семьи. По его словам, «покойный отличался феноменальным бескорыстием», он за свой счет ездил по губернии в качестве эпидемического врача, покупал лекарства «в ущерб семье из своих скудных средств». В результате было принято компромиссное решение. Бирское уездное земство оплатило обучение детей Я.О. Левицкого, а губернские гласные увеличили размер единовременной материальной помощи до 400 р.5
Служащие, получавшие жалование из средств губернского сбора, подчинялись губернскому земству. Как уже отмечалось, часть таких служащих работала в уездах. К данной группе относились ветеринарные врачи, фельдшеры, страховые агенты, агрономический и эпидемический персонал, сотрудники дорожных отделов. Непосредственная деятельность этих специалистов была связана с конкретным уездом, определялась его географическими и другими особенностями. Но принятие кадровых решений считалось «естественным правом» губернского земства.
Развитие ветеринарного дела осуществлялось преимущественно за счет средств губернского сбора. Вплоть до начала XX в. уезды, по выражению председателя Уфимской губернской управы П.Ф. Коропачинского, «и не спрашивали о том, какие ветеринарные врачи у них работают». В 1904 г. решение вопроса о приглашении на службу и увольнении ветеринаров было предоставлено «соглашению губернской управы с уездными, если же такое соглашение не состоится – то губернской управе». В целом процесс согласования проходил бесконфликтно. Единственная заметная дискуссия состоялась на заседании Уфимского губернского земского собрания 12 декабря 1906 г. Поводом для обсуждения стало ходатайство Белебеевского уездного земского собрания по ветеринарным вопросам. Белебеевские гласные признали «весьма желательным» поручить приглашение и увольнение ветеринаров уездным управам1.
В ходе заседания проект своего земства поддержал гласный Василий Иванович Бунин – ярко выраженный «уездник», постоянный оппонент губернской управы (Азаматова, 2021: 119). Василий Иванович настаивал на том, что нужно «стараться поближе связать уездные управы взаимным общением со служащими губернского земства на местах». В.И. Бунина поддержал гласный Уфимского уезда П.Ф. Гиневский: «уездные управы стоят ближе к врачам, они имеют возможность критически отнестись к их деятельности». Противоположную точку зрения отстаивал П.Ф. Коропачинский, подчеркивавший, что до сих пор не было отмечено никаких столкновений по этому вопросу. Во время голосования собрание большинством голосов высказалось за сохранение существовавшего порядка2.
В отдельных случаях уезды сами делегировали свои полномочия на уровень губернии. В 1893 г. на фоне многочисленных вспышек холеры состоялся съезд, в котором приняли участие земские врачи, члены губернской и всех уездных управ, а также некоторые ветеринары, вольнопрактикующие врачи и медики военного ведомства. Съезд пришел к выводу, что наем на службу эпидемических врачей следует отнести к исключительной компетенции губернского земства. В противном случае уездные управы «стали бы приглашать их наперерыв одна перед другой», что еще больше увеличило бы спрос на специалистов. Право нанимать низший эпидемический персонал закреплялось за уездами3.
Еще одна категория служащих, работавших в уездах, но формально подчинявшихся губернскому земству, появилась в 1895 г. В соответствии с решением Государственного Совета, в земских губерниях был образован специальный капитал, предназначенный для сооружения и содержания дорог. Оплата труда всех специалистов (канцелярии дорожных отделов, техников, десятников) также осуществлялась из средств этого капитала, который считался «особым подразделением сметы губернского земского сбора»4.
Анализ делопроизводственной документации 1910-х гг. показывает, что уезды в обязательном порядке извещали губернскую управу о приеме, увольнении или переводе сотрудников дорожных отделов. Однако такие извещения носили уведомительный характер. Кадровые решения, не связанные с дополнительными расходами, уездные управы принимали самостоятельно. В 1913 г. губернская управа пыталась помочь земскому стипендиату, ученику Саратовской школы огнестойкого строительства А.А. Окулову. Он ходатайствовал о любой должности на время летней практики. Губернская управа обратилась с соответствующей просьбой в Мензелинское, Бирское и Уфимское уездные земства, но получила ответы об отсутствии вакансий. В том же году Бирская управа отказалась – «при всем желании» – пойти навстречу губернскому земству и откомандировать в его распоряжение своего инженера5.
При этом любое увеличение расходных обязательств требовало согласия со стороны губернского земства. Последнее, например, запретило назначение периодических прибавок техникам Уфимского уезда, несмотря на ходатайство уездной управы6. Решение о выплате наградных служащим канцелярии дорожных отделов, десятникам и техникам принималось в два этапа. Уездная управа составляла список служащих с указанием предполагаемой суммы. Губернское собрание разрешало произвести расход из дорожного капитала – при этом размер выплат мог быть уменьшен7.
Необходимость оптимизации сложившейся системы отмечали не только такие активные «уездники», как В.И. Бунин. За 1913–1916 гг. сразу несколько земств Уфимской губернии высказались за расширение кадровых полномочий уездов. В декабре 1913 г. губернское земство предложило уездным собраниям рассмотреть вопрос о передаче дорожного дела в ведение уездов, а также о создании межуездных медицинских участков. Право приема и увольнения врачей таких участков предполагалось предоставить уездным управам. Гласные Бирского уезда в сентябре 1914 г. выступили за скорейшее введение мелкой земской единицы и необходимость немедленной передачи в ведение уездов дорожного дела, агрономии, внешкольного образования1. В свою очередь, Уфимское уездное собрание осенью 1916 г. признало «назревшей потребностью» передачу в руки уездных земств полномочий по назначению и увольнению работников сферы внешкольного образования2.
В целом анализ позволяет говорить о постепенном повышении роли уездных земств в кадровой политике органов местного самоуправления. По отношению к служащим, получавшим жалование из средств уездного земского сбора, все кадровые решения принимали уездные управы и собрания. Это позволяло более оперативно реагировать на ситуацию, учитывать особенности конкретного уезда. Тем не менее самостоятельность уездов привела к усложнению документооборота (например, при переходе служащего в другое земство) и отсутствию единой системы социальной защиты. Каждое уездное земство устанавливало размер жалования, разрабатывало свои правила выдачи периодических прибавок, наградных и т. д. Меняя место работы в поисках лучших условий, земские служащие увеличивали текучесть кадров – так называемую «неустойчивость» «третьего элемента».
К числу губернских служащих, работавших в уездах, относились ветеринары, агрономы, страховые агенты, сотрудники дорожных отделов и некоторые другие категории. Первоначально право приглашения и увольнения таких служащих, определения размера жалования полностью принадлежало губернскому земству. В начале XX в. наметилась тенденция к делегированию части полномочий на уровень уезда. Кадровые решения начали приниматься либо по соглашению двух управ (например, по отношению к ветеринарам), либо уездными земствами при условии информирования губернской управы (по отношению к служащим дорожных отделов). Губернское земство сохраняло за собой только финансовый контроль. При этом заметная часть земств Уфимской губернии выступала за дальнейшую передачу кадровых полномочий в руки уездов.
Список литературы Губернское и уездные земства Уфимской губернии: опыт взаимодействия в сфере кадровой политики в конце XIX - начале XX в
- Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет: в 4 т. СПб., 1911. Т. 3. 708 с.
- Азаматова Г.Б. Земское самоуправление в многонациональном регионе России (на примере Уфимской губернии, 1874-1917 гг.): монография. Уфа, 2021. 364 с. EDN: MZQDJM
- Полянина О.А. Становление российской системы пенсионного обеспечения муниципальных служащих (на примере Уфимской губернии). Уфа, 2014. 170 с. EDN: STPUEN
- Пасхалов К.Н. Необходимая реформа земских учреждений. М., 1910. 39 с.