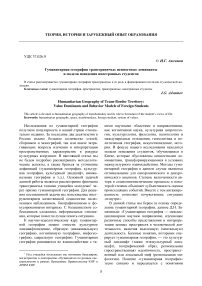Гуманитарная география трансграничья: ценностные доминанты и модели поведения иностранных студентов
Автор: Актамов Иннокентий Галималаевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Теория, история и зарубежный опыт образования
Статья в выпуске: 1.1, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается гуманитарная география трансграничья и ее роль в формировании взглядов студенческой молодежи.
Гуманитарная география, пространство, трансграничье, иностранные студенты
Короткий адрес: https://sciup.org/148180591
IDR: 148180591 | УДК: 37.026.9
Текст научной статьи Гуманитарная география трансграничья: ценностные доминанты и модели поведения иностранных студентов
Исследования по гуманитарной географии получили популярность в нашей стране относительно недавно. За последние два десятилетия в России издано большое количество статей, сборников и монографий, так или иначе затрагивающих вопросы изучения и интерпретации пространственных характеристик в ракурсе культурных координат. В настоящей статье мы не будем подробно рассматривать методологические аспекты, а также браться за уточнение дефиниций (гуманитарная география, культурная география, культурный ландшафт, имажи-нальная география и т.д.). Основной задачей данной работы является рассмотрение феномена трансграничья глазами учащейся молодежи1 через призму гуманитарной географии. Для решения поставленной задачи мы пользовались инструментарием качественной социологии: включенным наблюдением, биографическими и фокусированными интервью. С большинством собеседников сложились неформальные отношения, которые помогли лучше понять ситуацию.
К научно-идеологическому ядру гуманитарной географии можно отнести: культурное ландшафтоведение, образную (имажинальную) географию, когнитивную географию, мифогео-графию, сакральную географию. Гуманитарная география развивается во взаимодействии с та- кими научными областями и направлениями, как когнитивная наука, культурная антропология, культурология, филология, политология и международные отношения, геополитика и политическая география, искусствоведение, история. В фокусе нашего исследования находятся модели поведения студентов, обучающихся в Китае, которые обусловлены ценностными доминантами, трансформирующимися в условиях межкультурного взаимодействия. Методы гуманитарной географии в данном случае являются оптимальными для синхронического и диахронического анализов. Степень включенности автора в социолингвистические процессы в некоторой степени объясняет субъективность оценки происходящих событий. Вместе с тем ангажированность позволяет почувствовать ситуацию «изнутри».
В данной статье мы берем за основу определение гуманитарной географии, данное Д.Н. Замятиным: «Гуманитарная география — междисциплинарное научное направление, изучающее различные способы представления и интерпретации земных пространств в человеческой деятельности, включая мысленную (ментальную) деятельность. Базовые понятия, которыми оперирует гуманитарная география, — это культурный ландшафт (также этнокультурный ландшафт), географический образ, региональная (пространственная) идентичность, пространственный или локальный миф (региональная мифология). Понятие «гуманитарная география» тесно связано и пересекается с понятиями
«культурная география», «география человека», «социокультурная (социальная) география», «общественная география», «гуманистическая география»» [2, с. 26].
Процесс освоения территории связан с адаптацией человека к среде обитания (и природной, и социокультурной), в том числе адаптацией психологической. В ходе нее формируются определенные модели человеческой деятельности, имеющие целью снизить психологически степень дисгармонии между человеком и миром, сделать мир как бы более комфортным2. Всю территорию мы условно (во многих случаях подсознательно) делим на определенные зоны. Это отражено в фольклоре, верованиях, традициях и обычаях. И от того, насколько территория нами «присвоена», зависит и модель нашего поведения. Наша ментальность складывается из географических характеристик ландшафта. Вместе с тем нужно учитывать тот факт, что ландшафт географический трансформируется в ландшафт культурный. Культурный ландшафт мы рассматриваем с двух сторон. С одной стороны, как результат общественной деятельности, направленной на удовлетворение повседневных потребностей человека и общества, потребностей, связанных с обеспечением их существования, а с другой – как последствие деятельности, направленной к определенным основаниям бытия, то есть собственно человеческой деятельности3.
При исследовании особенностей культурного ландшафта Бурятии (России), Монголии и Внутренней Монголии (КНР) мы использовали моделирование географических образов, которое включает в себя две основные части: 1) теорию моделирования географических образов и 2) методику и прикладные аспекты их моделирования. В качестве материала используются тексты различного типа (как вербальные, так и невербальные), а также визуальное искусство, музыка. Объектом исследования в МГО (моделирование географических образов) может выступать как конкретная географическая территория (ландшафт, культурный ландшафт, населенный пункт, город, район, страна), так и определенное художественное произведение или определенный текст (письменный, визуальный и т.д.). Промежуточным (переходным) объектом исследования могут быть человеческие сообщества различного ранга и размерности (этническая, культурная или социальная группа, территориальное сообщество, население города, профессиональное сообщество, виртуальное сообщество, нация и т.п.) [3, с. 32-33].
Географический ландшафт в прямом его понимании объективно не имеет существенных различий в Бурятии, Монголии и Внутренней Монголии в силу их относительной близости. Вместе с тем тончайшие нюансы, присущие каждой из трех географических точек фокуса исследования, распознаются довольно четко всеми представителями государств. Например, студенты из Монголии однозначно различают приграничную с Китаем территорию Монголии: «Мон-голын тал нутаг гое юмаа! Агаар нь ч өөр байна» (Прекрасна монгольская степь! Даже воздух другой). Наряду с восхищением и радостью встречаются и критические замечания: «Мон-голчууд гялгар утандаа дарагдах нь дээ!» (Монголия скоро вся покроется полиэтиленовыми пакетами). Фразы были произнесены после того, как поезд пересек границу Китая и Монголии, монгольские студенты возвращались на родину.
Трансграничье – относительно новый термин в современной геополитике и экономике. Безусловно, феномен трансграничья затрагивает многие сферы, но наиболее существенную роль в силу приграничного и трансграничного взаимодействия отводится экономике и геополитике. В наиболее общем виде под ним понимается регион, объединяющий приграничные области двух и более государств в условиях тесного многостороннего взаимодействия4. В этом смысле феномен трансграничья осмысливается как пространство, где действует комплекс взаимно ориентированных участников, cсогласующих свои действия с действиями других. Более того, трансграничье рассматривается специалистами как мир межгосударственного взаимодействия, как пространство «большого взаимодействия».
Трансграничье рядом авторов рассматривается как социальная система, имеющая транснациональный характер и называемая субнациональной системой. В таком понимании транс-граничья основополагающей становится идея о том, что граница перестает быть рубежом, географическим маркером, который разделяет и связывает культурно-этнические, материальные и духовные интересы народов и культур. Центральной категорией, структурирующей содержание понятия «трансграничье», становится понятие «приграничная территория», которое понимается как многомерное единство, социокультурное пространство, имеющее историю и перспективы развития5.
Студенчество как особая социальная группа является предметом исследований не только собственно педагогики и психологии, но и социологии, политологии, лингвистики и других наук. В связи с глобализационными процессами увеличилась мобильность студентов и уже внутри данной исследовательской группы можно выделить ее отдельную часть – иностранные студенты. Под иностранными студентами понимаются учащиеся колледжей и вузов, которые получают профессию за пределами своей страны. Приезжая на учебу в другую страну, студенты сталкиваются с разными моделями поведения, которые в некоторых случаях абсолютно противоположны тем моделям, которые признаны и одобрены обществом в их стране. Характер отношения к данным моделям поведения зависит как от индивидуальных, так и от этнокультурных особенностей учащегося. Спектр отношений также может быть окрашен довольно широко: от абсолютного неприятия до копирования некоторых моделей поведения.
На учебу в Китай в рамках правительственной программы приезжают бакалавры, магистранты и докторанты. Для удобства мы объединим всех в одну группу «иностранные студенты», поскольку существенной разницы в характере освоения китайского языка между докторантами и магистрантами нет, к тому же разница в возрасте не так велика. Другое дело, что сами магистранты характеризуют докторантов как людей, обладающих некой привилегированностью. Но это скорее социальная характеристика, перенесенная из «предыдущего этапа жизни», которая нивелируется в совместной внеучебной культурно-спортивной деятельности в городе Хух-Хото. В данной статье мы будем рассматривать магистрантов и докторантов, поскольку именно они представляют интерес с точки зрения динамики изменения ценностных ориентаций. На учебу они приезжают с уже сформировавшимися взглядами и системой ценностей, которые претерпевают некоторые изменения в процессе культурно-образовательной деятельности.
В фокусе нашего исследования иностранные студенты из России и Монголии, которые обучаются в Китае (Внутренней Монголии). Для анализа динамики изменения их взглядов и убеждений мы условно выделим три этапа. Первый этап – начальный (адаптивный), который по времени занимает период от нескольких месяцев до года. Второй этап – промежуточный (конструктивный), второй и третий годы обучения. Третий этап – заключительный (аналитический), четвертый год обучения. Данная правительственная программа реализуется во Внутренней Монголии с 2008 г., таким образом, временные рамки данного исследования охватывают период с 2008 по 2011 г., в 2012 г. будет первый выпуск магистрантов и докторантов, обучающихся по этой программе.
Наиболее трудным в эмоциональном плане является начальный этап, в течение которого, по свидетельству самих студентов, они находятся в весьма сложных условиях, в первую очередь из-за отсутствия элементарных знаний китайского или монгольского языков6.
Автономный район Внутренняя Монголия является национально-административной единицей в составе КНР, поэтому наряду с китайским языком равные права имеет и монгольский язык. Кадровая политика строится таким образом, что в руководстве университета, институтов и факультетов существуют две равноправные должности – ректора (директора, декана) и партийного секретаря. Если административной работой занимается директор, то всю партийную и общественную работу курирует партийный секретарь. Следующей особенностью является национальная политика в распределении кадров. Если директор института этнический ханец7, то партийный секретарь, как правило, этнический монгол. Национальная политика Пекина строится на принципах, сформулированных в социалистический период, но в нее плавно вписалась практика управления неханьскими народами, которая исторически складывалась на протяжении более двух тысячелетий8. Таким образом, иностранным студентам из Монголии в языковом плане намного легче адаптироваться, по- скольку и в Институте международных отношений, и в руководстве других факультетов и институтов есть преподаватели этнические монголы. Студентам из России, не знающим монгольского и тем более китайского языка, намного сложнее. В данной работе мы не будем останавливаться на особенностях преподавания китайского языка и способов его усвоения разными группами студентов9.
Первый этап характеризуется адаптацией студентов к бытовым условиям, к китайской кухне и только затем непосредственно к учебному процессу. Магистранты и докторанты ко времени своего приезда на учебу уже являются состоявшимися людьми в профессиональном плане, у многих есть семья, поэтому условия проживания имеют большое значение в новой студенческой жизни. Подавляющее большинство являются преподавателями вузов и сотрудниками научных лабораторий, поэтому одной из первых трудностей является смена статуса преподавателя на студента. Второй проблемой являются повышенные требования со стороны студентов к преподавателям, обучающим их китайскому языку. Наличие опыта и профессиональной подготовки в методике преподавания дисциплин различного цикла позволяет им оценивать качество работы учителей китайского. Скрытое недовольство качеством преподавания, отсутствием четкой методики перерастает в открытые замечания и конфликты между студентами и преподавателями. По инициативе студентов организуются встречи с руководством института, проводятся собрания. Однако следует отметить, что принципиальных изменений не происходит. Отчасти это можно объяснить тем, что любые изменения в учебном процессе проходят долгую процедуру обсуждения и согласования в разных инстанциях.
На втором этапе студенты начинают обучение по специальности. Поскольку уровень владения китайским языком недостаточен для полного усвоения материала, тут возникает проблемная ситуация. Для ее решения вводятся дополнительные занятия по китайскому языку. Таким образом, это становится уже обязательным циклом дисциплин китайского языка на втором году обучения для всех магистрантов и докторантов. Следующей особенностью процес- са обучения является различие в исторической периодизации, принятой в России и в Монголии с китайской хронологической системой, а также в методике преподавания языковых дисциплин. В первом случае речь идет об исторических специальностях, а во втором – о педагогике.
Третий этап можно охарактеризовать как аналитический, поскольку на данном этапе уровень владения китайским с небольшими оговорками вполне отвечает требованиям, предъявляемым к студентам. Проводится осмысление не только содержания и структуры научной работы, но и всего периода обучения и дальнейших перспектив.
Данные этапы помогут нам в анализе динамики изменения ценностных ориентаций иностранных студентов. На первом этапе особенно сильное впечатление вызывают условия жизни китайских студентов. И хотя для иностранных студентов условия на порядок выше, все же причины для недовольства находятся. Весьма показательным является процесс заселения в комнату и дальнейшее ее обустройство. После заселения монгольские и российские студенты пытаются полностью поменять облик комнаты, ее планировку, то есть сконструировать собственное пространство. На основе этого можно сделать вывод, что изначально на подсознательном уровне есть чувство неприятия стиля и образа жизни китайских студентов. Постепенно иностранные студенты перенимают привычку пить горячий кипяток, есть китайские лепешки и даже в некоторых случаях перенимают стиль одежды. Особое признание получают усердие к учебе и целеустремленность китайских студентов. В этом плане они являются примером для подражания.
Интерес представляет дизайн учебных аудиторий. Привыкшие к партам максимум на двух человек иностранные студенты некомфортно ощущают себя за партами, которые соединены по рядам и рассчитаны на шесть и более сидячих мест. Стол преподавателя во многих аудиториях находится на невысоком постаменте, поэтому учителя всегда находятся на некотором возвышении. Таким образом, учитель, вернее его рабочее место, изначально дистанцируется от рабочего места студентов. Для чтения лекций, возможно, это и оправданно, но в плане преподавания языка, где нужен непосредственный контакт, это служит дополнительным барьером.
Говоря о трансграничье, мы упоминали, что под этим феноменом понимается регион, объединяющий приграничные области двух и более государств в условиях тесного взаимодействия. В этом отношении город Хух-Хото вполне можно считать трансграничной территорией, несмотря на то, что он является региональным центром автономии, да и территориально находится недалеко от столицы страны – Пекина. Во-первых, в сознании всех монгольских сту-дентов10 (да и их родителей) Хух-Хото не воспринимается как заграница. Основная причина в том, что граждане Монголии имеют право въезда и пребывания на территории КНР в течение 30 суток. Поэтому родственники монгольских докторантов и магистрантов довольно часто приезжают в Хух-Хото. Другая причина в том, что монголы довольно легко могут обходиться без китайского языка, поскольку язык внутренних монголов (овор-монголов) принципиально не отличается от языка халха-монголов. Кроме того, внутренние монголы сохранили традиционный уклад и культуру, поэтому культурный ландшафт Хух-Хото в некоторых местах даже более монгольский, нежели культурный ландшафт Улан-Батора. По значимости вопрос пограничного (паспортно-визового) контроля ставится выше по той простой причине, что халха-монголы и антропоморфически, и по поведению, стилю одежды четко дифференцируют овор-монголов и считают их больше китайцами, чем монголами. Оценки довольно редко носят положительный характер. Это наверняка связано с отношением к китайцам и Китаю в целом, что обусловливается историей взаимоотношений двух народов и стран. Но за последние десять лет экономическое влияние Китая в Монголии заметно увеличилось. Сегодня на долю КНР приходится до 80% монгольского экспорта и до половины импорта, сообщает The Economist11. Именно поэтому изучение китайского языка становится весьма популярным среди школьников и студентов. По свидетельству многих монгольских магистрантов и докторантов, отношение к Китаю и китайцам за период обучения в Хух-Хото существенно поменялось в лучшую сторону. В одной из бесед прозвучала интересная мысль: «Китайское правительство, реализуя эту Программу12, расширяет свое влияние в Монголии. На учебу приезжает много преподавателей, сотрудников научных институтов, которые после окончания срока обучения будут невольно транслировать китайскую культуру, ее отдельные элементы в форме тех же образцов поведения, привычек, вкусов и предпочтений в музыке, одежде и т.д. Будут влиять на формирование взглядов и убеждений школьников и студентов. Новое поколение монгольской молодежи будет воспитываться на китайской системе образования».
Иностранные студенты из России в беседах и суждениях о культурно-географических особенностях города Хух-Хото также считают его «почти Китаем». Критериями служат не только архитектура зданий, этнические мотивы в оформлении кафе, ресторанов, школ и детских садов, но и монгольская кухня, которая по популярности намного превосходит китайскую. В поездках в другие китайские города российские студенты часто вспоминают традиционную монгольскую кухню, которой не хватает в том же Пекине, Датуне, Сиане, не говоря уже о таких городах, как Шанхай, Гуанчжоу и др.
Но самым ярким маркером, по которому студенты определяют Хух-Хото как «почти Китай», является истинно монгольское представление о пунктуальности и отношение к временным рамкам в целом. Примечательно, что если на первом этапе это отношение довольно сильно раздражает, то на втором и третьем этапах воспринимается как данность, которую нужно принять. Таким образом, если монгольские студенты становятся невольными агентами китайского влияния, то российские студенты транслируют не только и не столько китайскую культуру, но и трансграничную культуру Хух-Хото.
Использование методов гуманитарной географии видоизменяет не только собственно понимание культурного ландшафта, но и понимание места вообще. Это открывает, во-первых, пути исследований «конструирования места», во-вторых, указывает на необходимость культурно-географических подходов к характеристикам территории, поскольку «ландшафты, представляемые как красочный способ репрезентации среды обитания человека, могут исследоваться через множество источников и плоскостей: в картинах на холсте, в текстах на бумаге, образах в кино, так же как и на земной поверхности» [5, p. 8].
Культурный ландшафт не имеет четких границ, он раскрывается в кросскультурной коммуникации, в представлениях и стереотипах, которые сформированы у представителей одной культуры относительно другой культуры. В данном случае средой (средоточием), где происходит взаимодействие культур, является город
Хух-Хото. В этой среде мы рассмотрели процессы конструирования места и трансформации культурных доминант у иностранных студентов.
Взаимодействие людей предполагает не только общение в рамках языка и места. Формирование личности происходит в социокультурной матрице, которая создавалась на протяжении всей истории существования этноса как создателя культуры. Сложность и многоуровне-вость национальной культуры обеспечивают сложность и многоуровневость личности, выросшей и воспитанной в традициях этой культуры. Вместе с тем современный мир характеризуется возрастающей ролью приоритета индивидуальных стратегий. И чем сложнее личность, тем эффективнее жизненные стратегии, которые она способна генерировать. Ученые-педагоги признают сложность противоречий, существующих в современном обществе. И их решение должно носить междисциплинарный системный характер. В этом плане педагогической науке необходимо использовать методы не только смежных наук, таких как психология, физиология, социология, но и гуманитарной географии, которая позволяет исследовать формирование и трансформацию ценностных доминант в различных культурно-географических условиях, для того чтобы человек вписался в современный мир без утраты своих духовных ориентиров.