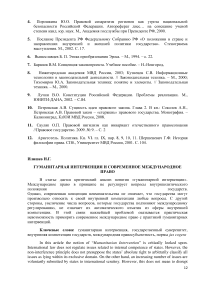Гуманитарная интервенция и современное международное право
Автор: Илишев Ильдус Губайдуллович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 3 (25), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье дается критический анализ понятия «гуманитарной интервенции». Международное право в принципе не регулирует вопросы внутриполитического положения государств. Однако, современная концепция невмешательства не означает, что государства могут произвольно относить к своей внутренней компетенции любые вопросы. С другой стороны, увеличение числа вопросов, которые государства подчиняют международному регулированию, не означает их автоматического изъятия из сферы внутренней компетенции. В этой связи важнейшей проблемой оказывается практическая невозможность примирить современное международное право с практикой гуманитарных интервенций.
Гуманитарная интервенция, государственный суверенитет, внутренняя компетенция государств, международная правосубъектность, нормы jus cogens
Короткий адрес: https://sciup.org/142233576
IDR: 142233576
Текст научной статьи Гуманитарная интервенция и современное международное право
In this article the notion of “Humanitarian Intervention” is critically looked upon. International law does not regulate issues related to internal competence of states. However, the non-interference principle does not presuppose the states’ absolute right to arbitrarily classify all issues as lying within its exclusive domain. On the other hand, an increasing number of issues are voluntarily submitted by states to international scrutiny. However, this does not mean to disrupt the states’ sovereignty over these issues. Hence, it is virtually impossible to harmonize modern international law with the concept of “humanitarian or benevolent intervention”.
В ХХ столетии произошли значительные изменения в структурной организации мирового сообщества, существенным образом обновились сопутствующие нормативноправовые критерии и, наконец, человечество пересмотрело многие морально-этические ценности. Указанные изменения благотворно повлияли на разработку новых норм международного права, и данная система, в свою очередь, предоставила социальным силам реальную возможность направить развитие международного права в сторону учета интересов народов. Современная международная правовая система характеризуется тем, что возрастает внимание к проблемам отдельных индивидов и целых групп на базе общепринятых норм, регулирующих права человека и, соответственно, наблюдается тенденция к отходу от позитивистских традиций недалекого прошлого, с ее исключительной ориентацией на институт государства23.
О росте роли и значения международного права в современном мире свидетельствует тот факт, что в последние десятилетия произошло существенное расширение круга общественных отношений, составляющих предмет его правового регулирования. Этот процесс развивается сегодня в двух основных направлениях. Для первого из них характерна регламентация международным правом новых направлений межгосударственного сотрудничества. Содержание второго определяет все более глубокое проникновение регулирующего воздействия международно-правовых норм в сферу внутригосударственных отношений.
Объективные тенденции развития международных отношений, а также усиление взаимозависимости и взаимовлияния государств привели к расширению сферы правового регулирования этих отношений, что выразилось в появлении новых отраслей международного права. Так, например, только во второй половине прошлого века в его рамках сформировались такие отрасли, как международное ядерное право, международное право прав человека, международное космическое право, международное право окружающей среды, международное уголовное право.
Новые тенденции мирового общественного развития, обозначившиеся в начале XXI века, поставили перед правоведами и политологами ряд важных задач, от эффективного решения которых во многом будут определяться содержательные характеристики формирующегося на наших глазах мирового порядка, что, в свою очередь, требует критического анализа некоторых категорий применяемых в международном праве, а именно соотношения таких понятий как «государственный суверенитет» и «гуманитарная интервенция».
Эволюцию международного права невозможно рассматривать в отрыве от кардинальных перемен, имевших место в современном мире и приведших к глобальному демократическому переустройству институтов государственной власти и бурному росту международных организаций, которые основывают свою деятельность на нормах справедливого мирового порядка. С одной стороны, принципы, нормы и процедуры, которые подпадают под рубрику международного права, в значительной степени ориентированы на институт государства и риторика примата суверенитета государств продолжает оставаться доминирующей в международном правовом дискурсе. С другой стороны, сообщество государств, чей суверенитет призвано защищать международное право, вышло далеко за рамки Европейской «семьи». Международное право начинает обретать изначально предполагавшуюся универсальность и, соответственно, теоретически допускает членство в мировом сообществе государств всех юридических лиц, которые отвечают критериям государственности24. Конститутивная, или учреждающая теория, согласно которой событие государственности наступает только после абсолютного или позитивного признания, начинает в международном праве уступать место декларативной теории признания, предполагающей уже презумпцию государственности народов в силу объективных критериев, независимо от наступления самого события признания25. Наряду с этим нельзя не признать, что имеют место политические факторы субъективного порядка. Именно в этот ряд укладывается признание независимости самопровозглашенных государств Косово, Абхазии, Южной Осетии.
На практике, однако, условие признания большинством субъектов, действующих в рамках международного права, продолжает оставаться решающим для правоспособности народа, нации требовать применения в отношении себя нормативных процедур международного права. Тем не менее, в силу ли объективных факторов, или в результате применения общепринятых международно-правовых норм – самое авторитетное и представительное международное сообщество - ООН расширялась главным образом за счет стран, представляющих Африку, Азию, Латинскую Америку, Карибский бассейн и Тихоокеанский регион, многие из которых появились на свет в последние полвека и составляют сейчас в данной организации большинство. С наличием такого набора неевропейских культур и мировоззренческих традиций, евроцентристские подходы перестают доминировать в процессе принятия решений по общегуманитарным человеческим проблемам. При этом немаловажное значение имеет тот факт, что закончилось блоковое противостояние по линии Запад - Восток, которое разделяло человечество идеологически и подрывало саму идею глобального применения и распространения политически нейтрального свода международных законов26.
Во время холодной войны вопросы морали и здравого смысла зачастую приносились в жертву геополитической целесообразности, что было вызвано прежде всего соперничеством двух супердержав – СССР и США. Например, в 70-х годах во время правления режима Пол Пота в Камбодже было уничтожено около двух миллионов человек, но поскольку все это происходило в пределах территории данной страны, мировое общественное мнение ограничилось лишь выражением легкой досады по этому поводу. Когда же в 1978 году Вьетнам вторгся в пределы Камбоджи и изгнал красных кхмеров из Пномпеня, ООН поспешила осудить данную акцию– в результате чего объективно получалось, что факт свержения кровавой диктатуры был квалифицирован как зло бóльшее, чем сам чудовищный геноцид, совершенный по отношению к камбоджийцам. Найти объяснение этому явному нонсенсу просто – Вьетнам был союзником Советского Союза, поэтому его вторжение в Камбоджи не могло быть воспринято иначе, как часть глобального агрессивного наступления Кремля27. Сейчас, когда холодная война закончилась, популярность обретает концепция так называемой «благотворительной ( benevolent ) или гуманитарной интервенции».
Вторая половина ХХ века дала множество примеров гуманитарных интервенций. В 1960 и 1964 годах Бельгия и США провели гуманитарную операцию в Конго, в 1965 году войска США оккупировали Доминиканскую Республику, в 1979 году Франция провела гуманитарную интервенцию в Центрально-Африканской республике. Военные операции США в Гренаде (1983 г.), в Панаме (1989 г.), в бывшей Югославии (1992 г.), в Косово
(1999 г.), в Сомали (1992-1993 гг.) и т.д. были также отнесены к разряду гуманитарных операций.
Однако, крушение прежней биполярной системы международных отношений вызвало появление таких проблем мировой политики, которые искусственно сдерживались или оставались второстепенными в период "холодной войны". На смену угрозе широкомасштабного военного противостояния, ядерной войны двух сверхдержав пришли новые вызовы — международный терроризм, этнические конфликты, распространение оружия массового уничтожения, дестабилизация политической обстановки в традиционно «спокойных» автократических государствах. Яркий пример, целая цепь бурных антиправительственных движений в арабском мире (Тунис, Египет, Ливия, Бахрейн и т.п.).
В сферу международных отношений все больше вовлекаются негосударственные образования, более того, отдельные лица, международные организации, транснациональные корпорации, трудовые союзы и другие неправительственные структуры участвуют в процедурах, определяющих нормативное содержание международного права28. В свою очередь, частные лица и некоторые общественные образования стали активными участниками международно-правовых процедур, регулируемых специальными договорами. Исходя из этих реалий, международные суды, специалисты по международному праву начинают все чаще признавать то, что «международная правосубъектность (international personality) » уже не ограничивается рамками государств.
Современное международное право формируется под значительным воздействием мирового общественного мнения, начинающего самым активным образом проявлять озабоченность по поводу нарушений прав человека и народов29. Дискуссии по поводу прав народов существенным образом подрывают господствующую в международном праве нормативную базу позитивизма и представляют собою некий возврат к временам эпохи классического натурализма, когда право определялось на основе того, как это должно быть в теории, а не того, как это есть на практике, при этом само государство скорее мыслилось как форма организации человечества, чем инструмент его насилия и подавления30. Ученые, общественные и государственные деятели разных уровней призывают к выработке новых правовых норм и отказу от традиционных подходов в политике не просто для ограждения интересов государств, а для защиты общечеловеческих, гуманистических ценностей. Например, еще в 1991 году министр иностранных дел Франции Ролан Дюма, в связи с бедственным положением курдского населения в Ираке, считал вполне возможным принять меры, которые, согласно международному праву, явились бы нарушением суверенитета независимого государства и вмешательством в его внутренние дела. По этому поводу он заявил буквально следующее: «Хотя и нужно руководствоваться обязательствами, вытекающими из международных договоров, иногда появляется настоятельная необходимость нарушать положения международного права»31. А один из влиятельнейших политиков XX века, бывший премьер-министр Великобритании, Маргарет Тэтчер в свое время призывала международное сообщество вообще не обращать внимания на существование «правовых тонкостей» (legal niceties) при осуществлении гуманитарных интервенций32. Таким образом, обращаясь непосредственно к нуждам людей и народов, международное право претендует на включение в сферу своего действия таких вопросов, которые, как ранее считалось, относятся только к суверенному праву государств.
Создание Организации Объединенных Наций и других международных институтов как раз явилось проявлением изменяющегося характера международного права. Многосторонние договора, на основе которых был учрежден ряд межправительственных организаций мира, начинают определять рамки современной международной правовой системы. Данные параметры включают в себя материально-правовой и процессуальный аспекты, содержащие элементы как традиционного, государство-ориентированного подхода, так и элементы, основанные на примате интересов народов, что, в свою очередь, благоприятствует реформированию общей системы международного права33.
Международная практика XX столетия характеризуется тем, что среди императивных норм стали выделяться нормы jus cogens. В соответствии со ст. 58 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года под нормой jus cogens (императивной нормой общего международного права) понимается норма, принимаемая и признаваемая международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо. Отличие норм jus cogens от других норм императивного характера заключается в том, что любое отклонение от норм jus cogens делает действия государств ничтожными. Нормы jus cogens должны соблюдаться и быть применимыми к любой сфере международных отношений.
При этом сложилось общее понимание, что нормами jus cogens являются принципы Устава ООН, содержание которых отражено в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, от 24 октября 1970 г.
В свою очередь, Устав ООН в большей степени руководствуется нормами, ориентированными прежде всего на укрепление суверенитета государств, используя в качестве основополагающих принципов своей организации уважение к «суверенному равенству» и «территориальной целостности» государств-участников и невмешательству в их внутренние дела34. Кроме этого, согласно Уставу ООН, именно государства- члены организации являются бенефициариями (выгодоприобретателями) заявленного суверенитета, соответственно, в международную правовую систему вводится принцип конститутивизма, который предполагает, что членство в организации наступает только после события позитивного признания государства. Из Устава ООН также вытекает, что суверенитет государств-членов объективно есть уполномоченный или подтвержденный суверенитет, поэтому стремление некоего территориального, административного, политического, общественного или национального образования, не обладающего соответствующим членством, заявить право на так называемый «коллидирующий» суверенитет, т.е. такой суверенитет, который входит в коллизию с суверенитетом государства-члена, признается ООН неправомочным.
Вместе с тем среди руководящих принципов своей деятельности ООН объявляет также: «равноправие и самоопределение народов»35; уважение «к правам человека и основным свободам для всех без различия расы, пола, языка или вероисповедания»36 и улучшение «условий экономического и социального прогресса и развития»37. Более того, в Уставе подчеркивается, что международный мир и безопасность являются конечными целями организации38.
Устанавливая процедурные рамки деятельности ООН, Устав подкрепляет систему, ориентированную прежде всего на государства тем, что право голосования на заседаниях Генеральной Ассамблеи и других основных органах ООН предоставляется только государствам-членам39. Доступ же к Международному суду обеспечивается государствам и некоторым уполномоченным органам ООН лишь при получении согласия государств-членов40. В Уставе сделан также реверанс в сторону реального положения дел в мире, сложившегося после окончания второй мировой войны. Например, в качестве постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето, определяются всего пять государств - супердержав, в то время как другие государства свое членство в Совете Безопасности осуществляют на базе ротации41.
Устав обязывает все государства-члены «предпринимать коллективные или самостоятельные действия в сотрудничестве с Организацией» для достижения целей нравственно-этического характера, указанных в этом же документе42. Сам факт создания Генеральной Ассамблеи и других форумов, образованных в соответствии с Уставом, поощряет такое сотрудничество на самой широкой основе. Кроме этого, несмотря на то, что членство в ООН формально ограничивается государствами, имеются реальные возможности для участия негосударственных структур в процессе принятия решений по различным вопросам Организации. Например, общественным организациям предоставляется возможность сотрудничать с Экономическим и социальным советом ООН – подразделением, которое осуществляет функции контроля за деятельностью органов ООН по правам человека и социальной политики43. Как следствие, неправительственные организации смогли принять участие во многих мероприятиях ООН, касающихся прав человека и социальных вопросов44. Органы же ООН более низкого уровня включают в свой состав значительное число экспертов, работающих на индивидуальной, приватной основе. В частности, Секретариат ООН, обладающий, согласно Уставу, весомыми полномочиями, часто приглашает представителей общественных организаций для обсуждения социально и политически значимых проблем, особенно в сфере прав человека45.
Таким образом, через обширную систему ООН, включая организации регионального уровня, в целом утверждаются нормы, ориентированные прежде всего на примат интересов государств, но благодаря кардинально новым отношениям, сложившимся между ними в посткоммунистическом мире, а также усилиям общественных организаций, указанные нормы постепенно начинают меняться, что реально проявляется в характере современного международного права.
Гуманистические заповеди, которые являются базовыми принципами деятельности ООН и других важнейших международных организаций, послужили основой для выработки целого комплекса норм, направленных на улучшение условий жизни человека. На базе данных норм была выработана целая система прав человека и соответствующие процедуры осуществления контроля за их реализацией, что нашло свое отражение во многих авторитетных документах, например резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН46. Нормы, содержащиеся в указанных документах, призваны регулировать поведение всех государств в отношении своих граждан47. Международное движение за права человека, в которое были вовлечены как государства, так и негосударственные образования, заставило многие страны отказаться от своей претензии на исключительную компетенцию в данных вопросах48.
Движение за права человека содействовало тому, что в сферу применения норм международного права стало попадать гораздо бóльшее число субъектов и при рассмотрении человеческого общества наметился отход от традиционной дихотомической схемы «индивидуум-государство». Начиная еще с XVIII века, общественная мысль Запада под понятием «прав» понимала бóльшей частью требования (например, свободы, равенства, безопасности), которые предъявлялись государству отдельным индивидуумом или же сферу суверенных полномочий самого государства 49. Хотя философия западного индивидуализма и концепция первичности суверенитета государства продолжает оставаться достаточно распространенной, любое авторитетное обсуждение проблемы прав человека не обходится уже без учета тех ценностей, которые лежат в основе интересов целых сообществ индивидов50. Соответственно, нормы, регулирующие права человека, начинают формироваться под воздействием именно понятия групповых или коллективных прав, а международные организации постепенно вносят в свою деятельность необходимые коррективы.
Таким образом, международное право представляет собой целый комплекс принципов и процедур, применяемых наднационально, т.е. для всего мирового сообщества, и как таковое сориентировано прежде всего на защиту территориальной целостности и суверенитета государств. Хотя объем и содержание международного права продолжает определяться концепцией первичности их интересов, тем не менее в системе прав человека начинают появляться новые нормы. Данные нормы, при поддержке современных международных организаций и активном участии негосударственных институтов, способствуют расширению сферы компетенции международного права. Как следствие, решение многих вопросов, находившихся ранее в исключительном ведении государств, не может обходиться без применения соответствующих международно-правовых процедур.
Международное право в принципе не регулирует вопросы внутриполитического положения государств, поэтому вмешательством должны считаться любые меры государств или международных организаций, представляющие собой попытку воспрепятствовать субъекту международного права решать свои внутренние проблемы самостоятельно.
Понятие внутренней компетенции государства на практике часто вызывает споры. Оно меняется с развитием международных отношений, с ростом взаимозависимости государств. В частности, современная концепция невмешательства не означает, что государства могут произвольно относить к своей внутренней компетенции любые вопросы. Международные обязательства государств, в том числе и их обязательства по Уставу ООН, являются критерием, который позволяет правильно подходить к решению этого сложного вопроса. В частности, не подлежит сомнению, что понятие «дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства» не является чисто территориальным понятием. Это означает, что какие-то события, хотя они и происходят в пределах территории конкретного государства, могут рассматриваться как не относящиеся исключительно к его внутренней компетенции. Например, если Совет Безопасности ООН констатирует, что события, происходящие в пределах территории какого-либо государства, угрожают международному миру и безопасности, то такие события перестают быть внутренним делом данного государства, и действия Объединенных Наций в отношении этих событий не будут вмешательством во внутренние дела государства. Суверенитет не означает полной независимости государств или тем более их изолированности, поскольку они живут и сосуществуют во взаимосвязанном мире. С другой стороны, увеличение числа вопросов, которые государства на добровольной основе подчиняют международному регулированию, не означает их автоматического изъятия из сферы внутренней компетенции.
В этой связи важнейшей проблемой, как справедливо отмечает В.Иноземцев, оказывается практическая невозможность примирить современное международное право с практикой гуманитарных интервенций, найти оптимальный баланс между правомочностью и обоснованностью подобного вмешательства.51
Более того, по сей день не разрешено противоречие между юридическими принципами суверенитета государств и нравственным императивом защиты прав человека. Однако, отчасти интервенция признается легитимной в случае, если она предпринимается ради прекращения геноцида, религиозных или этнических чисток, а также для предотвращения ситуаций, развитие которых чревато преступлениями против человечности.52 Как полагают многие, ценность суверенитета заключается в достижении более фундаментальных целей, а именно таких как защита государством прав человека, поэтому масштабное нарушение прав человека является не только очевидным попранием человеческого достоинства, но и попранием самого принципа суверенитета53. Если подходить к проблеме с таких позиций, то логически получается, что масштабные нарушения прав человека означают делигитимизацию государственного суверенитета.
Следовательно, при таком подходе сам вопрос о том, противоречит ли гуманитарное вмешательство принципу национального суверенитета, теряет смысл. Объектом гуманитарной интервенции выступает не «падающее» или слабое государство, а населенная территория, где на момент начала вмешательства нет государственных институтов и где вследствие этого нет носителей ни внутреннего, ни внешнего суверенитета. С этой точки зрения, гуманитарная интервенция не является агрессией в собственном смысле слова.
Общий вывод: теоретически любое государство может стать объектом гуманитарной интервенции, поскольку, как было показано, в мировой политике наметилась тенденция десакрализации и де- jus cogens - зации принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, подминаемых субъективно понимаемым понятием гуманитарной интервенции, что чревато серьезными последствиями для международного мира и безопасности.
В этих условиях основная задача в области совершенствования международного права, на наш взгляд, заключается в создании эффективных механизмов предотвращения такого субъективизма в понимании гуманитарной интервенции. В частности необходимо и дальше укреплять роль и значение институтов ООН, прежде всего Совета Безопасности при разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в процессе совершения миротворческих операций. Как видно, современные нормы международного права не гарантируют объективности «гуманитарного вмешательства», поэтому одна из самых злободневных задач российской политической и юридической науки - системный анализ и изучение изложенных выше вопросов с точки зрения их возможных последствий для стратегических интересов Российской Федерации.
Список литературы Гуманитарная интервенция и современное международное право
- Anaya J.S. Indigenous Peoples in International Law. New York, Oxford: Oxford University Press, 1996.- p.39.
- Brownlie I., Principles of Public International Law [Принципы международного права], 4-th ed. Oxford: Clarendon Press, 1990: 88-91, где подробно обсуждаются различные теории признания государства.
- Anaya J. S., Op. cit.: 40.
- Talbott S., «When Monsters Stay Home», Time, Vol. 137, No. 15, April 15, 1991: 30.
- Rodley N., «The Work of Non-Governmental Organizations in the World Wide Promotion and Protection of Human Rights», United Nations Bulletin of Human Rights, No. 90/1 (1991): 90-93.