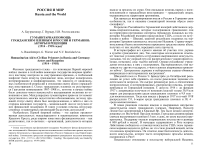Гуманитарная помощь гражданским пленным в России и Германии: Акторы и рецепция (1914 – 1918 годы)
Автор: Бауэркемпер А., Вурцер Г., Ростиславлева Н.В.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Россия и мир
Статья в выпуске: 69, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается оказание гуманитарной помощи enemy aliens на территории России и Германии в годы Первой мировой войны. В фокусе внимания авторов деятельность держав-покровительниц – нейтральных США, Швеции, которые представляли интересы Германии на территории Российской империи и нейтральной Испании, оказывавшей поддержку российским гражданским лицам в Германии, а также восприятие поддержки держав-покровительниц в эго-документах. Гуманитарные инициативы Международного и национальных комитетов Красного Креста способствовали не только материальной поддержке гражданских лиц, их идентификации, но сыграли важную роль в обмене гражданских пленных, их репатриации, в организации инспекций лагерей интернированных и переговорах с представителями военного командования об улучшении обращения с гражданскими пленными. Как транснациональная организация по оказанию гуманитарной помощи рассматривается Христианский союз молодых людей, который имел свои отделения практически во всех европейских странах и США. На территории России и Германии действовали квакерские организации, которые помогали в борьбе с голодом, обмене гражданскими пленными и их репатриации и способствовали бесконфликтной работе с другими гуманитарными организациями. Мотивы гуманитарной помощи названных акторов могли быть не только сугубо альтруистическими, но также прагматическими и политическими. Рецепция гуманитарных инициатив в эго-документах не только открывала новые факты, но нередко зависела от эмоционального восприятия авторов воспоминаний.
Первая мировая война, Германская империя, Российская империя, ограничение в правах, репатриация, интернирование, гражданский плен, гуманитарная помощь, благотворительность
Короткий адрес: https://sciup.org/149136809
IDR: 149136809
Текст научной статьи Гуманитарная помощь гражданским пленным в России и Германии: Акторы и рецепция (1914 – 1918 годы)
А. Бауэркемпер, Г. Вурцер, Н.В. Ростиславлева
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНСКИМ ПЛЕННЫМ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ: АКТОРЫ И РЕЦЕПЦИЯ (1914 - 1918 годы)*
A. Bauerkamper, G. Wurzer and N.V. Rostislavleva
Humanitarian Aid to Civilian Prisoners in Russia and Germany: Actors and Reception (1914-1918)
Феномен гражданского плена - это инновация Первой мировой войны: именно в этой войне воюющие государства впервые прибегли к жесткому контролю за «внутренними врагами», в глобальный конфликт были втянуты гражданские лица, которые подвергались интернированию и конфинированию, что зависело от национальных особенностей репрессий в отношении enemy aliens («враждебных иностранцев»). Статус гражданских пленных не регулировался Гаагскими конвенциями 1907-1908 гг., поэтому в начале войны было довольно много неясностей в выстраивании политики по отношению к ним. Международное гуманитарное право на тот момент представлялось многим недостаточно обоснованным, поэтому правовой статус enemy aliens был неопределенным, а забота о них со стороны воюющих государств - минимальной: они не получали от них финансовой поддержки. В таких условиях помощь негосударственных гуманитарных организаций была очень актуальной1.
Особенность Первой мировой войны - это хорошо организованная деятельность международного и национальных комитетов Красного Креста, ряда широко известных филантропических - как религиозных, так и светских - организаций, деятельность которых вышла за пределы их стран. Они оказывали помощь наряду с военнопленными и «враждебным иностранцам» - гражданским лицам, оказавшимся на территории противника.
Как процессы интернирования имели в России и Германии свои особенности, так и оказание гуманитарной помощи обрело свою специфику2.
В пределах Российской и Германской империй действовали державы-покровительницы, которые поддерживали гражданских лиц на территории противника: интересы германских поданных на территории Российской империи представляли США, а после их вступления в войну - Швеция, защитой российских поданных на территории Германии занималось посольство Испании. Страны-покровительницы были уполномочены переводить средства enemy aliens, получать от них жалобы, передавать ноты протеста.
В историографии нет единого мнения об участии этих держав в судьбах гражданских лиц. Так, некоторые исследователи отмечают тяжелые условия работы сотрудников американских консульств, указывая, что их упорный труд по распределению гуманитарной помощи, возможно, спас тысячи жизней. Однако российские учреждения относились к ним с подозрением. Настороженность они вызывали и у других государств, о чьих пленных американцы проявляли заботу3. Центральные державы и нейтральные страны обвиняли американцев в антигерманских настроениях4.
Шведский посол в России Э. Брандстрём до Октябрьской революции не успел себя проявить, но после революции значение его деятельности возросло. Он сыграл решающую роль в обеспечении военнопленных и интернированных, распределяя помощь, которая прибывала из Германской империи. С августа 1914 г. до февраля 1917 г. американцы получили от немецких властей только 36,9 млн марок для распределения среди гражданских пленных и 9,9 млн -для военнопленных. Тогда как шведы с февраля 1917 и по май 1918 распределили 153, 6 марок среди гражданских пленных и 38, 4 -среди военнопленных.
В плане рецепции помощи шведов и американцев интересны свидетельства самих гражданских пленных. Например, Вальтер Лемме был депортирован в Красный Яр. Там было немало депортированных из Восточной Пруссии немцев. Городская администрация сначала выплачивали пленным 15 коп. в день, но затем выплаты прекратились. Поддержку оказало американское посольство в размере 6 000 рублей в месяц5. В мемуарах задержанного в Риге матроса Ляйстикова сообщалось о помощи консульства США: всем германским морякам выдали по рублю, но это стало разовой акцией, потом эта помощь прекратилась. Он отмечал даже бесполезность деятельности консульства, которое часто игнорировало просьбы немцев, оказавшихся в Риге6.
Показательно отношение к посольству нейтральной Испании, которое в условиях войны представляло интересы России и в целом выступало в защиту участников вооруженного конфликта. Деятельность посольства дореволюционной и постреволюционной Россией оценивалась неодинаково. Так, советник российского посольства в Испании Ю.Я. Соловьев высоко ценил усилия Испании в оказании помощи российским enemy aliens. Он писал, что испанский посол в Берлине неукоснительно исполнял возложенные на него обязанности, отмечал помощь испанских дипломатов в деле возвращения русских подданных, подчеркивал заслуги испанского короля Альфонса XIII. А российские дипломаты до Октябрьской революции выражали королю признательность за заботу о правах военных и гражданских пленных7.
Эти сюжеты нашли отражение в историографии: отмечается, что Испания «наряду с Красным Крестом развернула широкую гуманитарную кампанию, активным участником которой стал король Альфонс XIII»8. «Испанское правительство и Альфонс XIII заботились о военных и гражданских лицах, о тех, кто волею судеб оказался на вражеской территории без какой-либо связи с родиной», а также оказывали «помощь депортированному населению»9. В начале войны Соловьев в Петербурге организовал при испанском посольстве справочный стол, через который родственники могли пересылать деньги свои близким, застрявшим в Германии, в сумме до 300 руб.10
В 1916 г. представители испанского посольства в Берлине посетили лагеря для военнопленных, где нередко содержались и гражданские пленные, - в Альтдаме, Шнайдермюле, Мюндене, Донголь-ме, Ганновере11. Их отчеты хранятся в Архиве внешней политики Российской империи и еще ждут своего исследователя. Масштаб гуманитарной кампании Испании не подвергается сомнению, так как благодаря испанскому посольству российские подданные на территории Германии получали финансовую помощь, а их родственники узнавали хоть что-то об их судьбе.
В официальных докладных записках Генерального консульства РСФСР в Берлине, которое было образовано после подписания Брестского мира, отмечалось, что на самом деле испанское посольство очень формально оказывало поддержку российским интернированным и занималось отписками12. Такую ситуацию нетрудно объяснить, поскольку Испания и ее король Альфонс XIII очень симпатизировали странам Антанты, которые не могли простить Советской России сепаратного мира.
Нейтральные страны, безусловно, ограничивали масштабы Великой войны, способствовали сохранению и защите важных торговых связей. Как отмечает М. Стиббе, у этой войны была «тотали-зирующая» логика13, то есть государства, избравшие для себя путь «не участника» все равно должны были служить воюющей стороне в решении конкретных практических задач, что было показано на примере деятельности США, Испании, Швеции в отношении гер- 12
манских и российских enemy aliens.
Приверженность нейтралитету - отличительная черта скандинавской политической культуры в целом. Швеция, Дания и Норвегия в августе 1914 г. опубликовали совместную декларацию о нейтралитете. Швеция была активным посредником обмена гражданскими лицами между Россией и Германией. Официально обмен осуществлялся шведским Красным Крестом, но также были задействованы силы Министерства иностранных дел Швеции, сообщества Шведских национальных дорог и Национального совета здравоохранения. Российские граждане прибывали на пароходах из Германии, затем передвижение осуществлялось по железной дороге. В репатриации российских лиц было задействовано более 400 человек медицинского персонала из Швеции, переводчики. Активную поддержку оказывало местное население. Миссия продолжалась вплоть до заключения Брестского мира 3 марта 1918 г.14
О помощи шведов в репатриации российских граждан существует немало эго-документов15. Как замечал ГВ. Швац-Бостунич, шведы весьма любезно относились к русским. Например, молодые шведы помогали русским переносить багаж, отказываясь от платы за свои услуги, мотивируя это тем, что правительство поручило им оказывать всяческую помощь в отношении русских16. Швеция вызывала воодушевление и у Е.В. Герье, которая на страницах своих воспоминаний о репатриации восклицала: «Милые, хорошие шведы, как нам хотелось их поблагодарить, сказать, как отрадно нам было после девятинедельного плена чувствовать себя свободными людьми»17.
Помощь в репатриации оказывала нейтральная Швейцария. 22 сентября 1914 г. в Швейцарии было создано бюро по репатриации гражданских пленных под надзором Политического департамента в Берне в соответствии с решением Федерального совета. Германия наряду с Францией с воодушевлением восприняла его создание. Сложным был вопрос репатриации мужчин призывного возраста, который до конца войны оставался открытым18. На территорию нейтральных стран перемещались военнопленные, которые на нейтральной территории обретали гражданский статус19. В качестве возможных причин их перевода в нейтральные страны назывались психические заболевания, возникавшие на почве длительного заключения в лагере.
Другими акторами гуманитарной помощи гражданским пленным на территории России и Германии были Международный Красный Крест, Русский Красный Крест в Копенгагене, Российское общество Красного Креста, Красный Крест в Гамбурге, шведский Красный Крест, швейцарский Красный Крест, Центральный комитет Немецкого Красного Креста, Американский комитет Красного Креста, Христианский союз молодых людей (Young Men’s Christian Association; YMCA), инициативы принца Макса фон Баденского, яв- лявшегося почетным председателем баденского отделения германского комитета Красного Креста, организации квакеров.
Международный комитет Красного креста (МККК) был основан в Женеве в 1863 г. и уже сумел себя показать в ходе военных конфликтов. Масштабы Первой мировой войны были для него серьезным вызовом. С начала войны тысячи частных комитетов и местных организаций направили еду, одежду, предметы гигиены в международный комитет Красного Креста, который занимался их перераспределением через нейтральные страны. Гражданские лица были в фокусе его внимания, он делал все, чтобы минимизировать их страдания. Им также были созданы 14 картотек с данными по заключенным, среди которых были картотеки русских и германских enemy aliens. Картотека российских подданных была неполной и включала в себя не только данные о гражданских лицах, но и военнопленных, беженцах. Большое участие в ее создании принял датский комитет Красного Креста.
Следующий этап работы международного комитета Красного Креста - это координация репатриации, которая организовывалась региональными комитетами, призванными оказывать enemy aliens помощь во время транзита через их страны. Средства для этого обычно собирали на аукционах20.
В Берне в 1916и 1918 гг. были подписаны соглашения об обмене и нейтральном интернировании. МККК выражал озабоченность физическим и психическим состоянием военных и гражданских пленных. Призывал освободить всех военных и гражданских пленных, которые находились в лагерях более 18 месяцев. М. Стиббе упоминает франко-германскую конвенцию 1917 г., которая была призвана урегулировать освобождение гражданских пленных «голова за голову» и всех заключенных старше 55 лет21. Однако этот вопрос не удалось окончательно решить до конца войны. Соображения национальной безопасности в условиях военного времени часто оказывались сильнее. Однако гуманитарные инициативы МККК, затрагивавшие как гражданских лиц, так и военнопленных, -например, проведение инспекций лагерей интернированных, содействие их репатриации, переговоры с представителями военного командования об улучшении обращения с гражданскими пленными в лагерях - содействовали облегчению их участи.
Рецепция деятельности международного Комитета Красного Креста по репатриации задержанных в начале войны подданных Российской империи была неоднозначной. Есть упоминания об отнюдь не безвозмездной помощи этой организации при отправке русских enemy aliens на родину. Об этом можно прочитать в воспоминаниях Г.В. Шварц-Бостунича, А.И. Страхович22. Относиться к этому следует осторожно, так как «враждебные иностранцы» находились в подавленном и неустойчивом эмоциональном состоянии: распространялось много слухов, которые не всегда было возможно 14
проверить и которые на них действовали угнетающе.
Что касается деятельности Немецкого Красного Креста, то он также проявлял заботу о «враждебных иностранцах» и оказывал им необходимую помощь. На уровне рецепции его деятельности русскими подданными превалировали эмоции. Е.В. Герье, которая в начале войны оказалась в Германии, в своих воспоминаниях отмечала «неприятное лицо» немецкого доктора из германского комитета Красного Креста, а его желание помочь она объяснила тем, что русская дама, которой стало плохо в поезде в ходе репатриации, хорошо говорила по-немецки23.
Российское общество Красного Креста (РОКК) ведет свою историю с 1867 г. Первоначально оно называлось Российское общество попечения о раненых и больных воинах, которое взяла под свое покровительство императрица Мария Александровна. Идеология Общества основывалась на триаде, сформулированной С.С. Уваровым еще в 30-е гг. XIX в., - «православие, самодержавие, народность»24. После начала войны РОКК ориентировал свою деятельность на помощь раненым и больным российским воинам на фронте и в тылу: организовывались именные санитарные поезда, госпитали, перевязочные отряды, шел сбор пожертвований на фронт деньгами и вещами, то есть «враждебные иностранцы» не попадали в орбиту помощи. Например, задержанный в начале войны в Риге немецкий матрос Ляйстиков, который себя в своих мемуарах называл гражданским пленным или интернированным, отмечал, что первое время их в Риге ничем не обеспечивали, они должны были себя содержать сами и только после жалоб им стали выделять содержание по 10 коп. в день на человека, что хватало на фунт хлеба25. РОКК о них, видимо, не заботился, а помощь оказывали местные жители. Об этом матрос также упоминал в мемуарах, отмечая, что девушки им регулярно передавали еду26. Что касается российских гражданских пленных на территории Германии, то им, возможно, было полезно созданное РОКК бюро справок о военнопленных27, поскольку в начале войны не всегда четко отделяли гражданский плен от военного, а интернированные нередко содержались в лагерях для военнопленных.
Наибольшую активность проявлял Американский Красный Крест, получивший в 1915 г. финансовую поддержку фонда Рокфеллера. Директор центрального комитета Американского Красного Креста Эрнест Бикнелл одновременно являлся членом комиссии по оказанию помощи пострадавшим от войны фонда Рокфеллера. С конца 1914 г. до конца 1915 г. он посетил Англию, Бельгию, Голландию, Польшу, Францию, Германию, Сербию и Россию с целью выяснить последствия войны для гражданского населения и определить, в какой помощи оно нуждается. Его миссия также способствовала установлению прочных связей между двумя организациями и реализации международных амбиций Американского Красного
Креста28. Фонд Рокфеллера продолжал поддерживать Американский Красный Крест и после вступления в войну США: в 1917 г. он передал ему 5 млн долларов и еще 3 млн в 1918 г.29
Особого внимания заслуживает деятельность американца Конрада Хоффмана. Он помогал военнопленным, европейским студентам, беженцам, являлся секретарем международного комитета Христианского союза молодых людей (YMCA). Это организация начала свою деятельность в 1844 г. под руководством английского проповедника Джорджа Вильямса. Она была призвана распространять среди молодежи протестантские ценности и способствовать ее физическому развитию. Символ организации - перевернутый треугольник, «стороны которого символизировали единение разума, тела и духа»30. В годы Первой мировой войны это уже была транснациональная организация: ее отделения были практически во всех европейских странах и США. До вступления в войну США представители этой организации были и в России: к декабрю 1916 г. их было 1931, в период Временного правительства в Россию прибыло еще около 50 секретарей, которые должны были помогать не только пленным иностранцам, но и военнослужащим российской армии. Весной 1918 г. часть секретарей покинула Россию, а оставшиеся 56 работали не только с военнопленными, но и с гражданским населением32.
Христианский союз молодых людей помогал в основном военнопленным, но поскольку нередко они на территории Германии оказывались в одном лагере с гражданскими пленными, то на них эта помощь также распространялась. Международный комитет Христианского союза молодых много делал в сфере религиозной работы. Конрад Хоффман получал от русских военнопленных и интернированных просьбы передать им маленькие крестики или иконы. В результате переговоров американского комитета с представителями штаб-квартиры организации в России просьба была поддержана императрицей Александрой Федоровной и было выделено около 300 тыс. крестиков33. В лагерях интернированных на территории Германии не без помощи этой организации отмечались религиозные праздники, прежде всего Рождество и Пасха. Также Союз проделал большую работу по созданию библиотек, доставке в лагеря учебной литературы, спортивного инвентаря, организации спортивных мероприятий34.
Среди религиозных организаций помощь жертвам войны осуществляли квакеры. Их организации (Society of Friends) существовали с середины XVII в. и имели ярко выраженную пацифистскую направленность. В XVIII в., в период борьбы за ограничение работорговли, общество квакеров стало крупнейшим международным центром гуманитарного движения. После начала Первой мировой войны организация британских квакеров пережила раскол, поскольку часть британских квакеров объединились с пацифистами в Союз демократического контроля (Union of Democratic Control) и обще- 16
ство бойкотирования призыва (No-Conscription Fellowship), а другая их часть поддерживала объявление войны Германии как адекватную реакцию на вторжение немцев в Бельгию35. Британские квакеры раскололись на пацифистов и патриотов. В начале войны возник Комитет по оказанию помощи жертвам войны (War Victims’ Relief Committee), который направил активность общин в это русло. Пацифистское крыло квакеров создало Чрезвычайный комитет помощи немцам, австрийцам, венграм и туркам (Friends Emergency Committee for the Assistance for Germans, Australians, Hungarians and Turks). Пацифисты выступали за нейтралитет Британии, что не мешало им вести благотворительную деятельность как на территории Германии, так и России36.
На территории Российской империи квакеры начали свою деятельность еще до начала Первой мировой войны: в конце XIX - начале XX вв. они помогали в борьбе с голодом, пытались защитить духоборов от преследования властей, поддерживая в этом Льва Толстого. Общество квакеров в России позиционировало себя как неполитическая организация, которая под видом гуманитарной миссии утверждало либеральные идеи37. После Февральской революции власти оказывали квакерским организациям содействие, но наиболее активно они взаимодействовали с земствами. Так, в Бузулуке (Самарская губерния) Общество друзей заботилось о 26 тысячах перемещенных лиц, которые прибыли сюда из западных губерний Российской империи. Чтобы избежать голода, им необходимо были 30 000 фунтов стерлингов, поэтому в январе 1918 г. они спешно обратились с призывом к Комитету помощи жертвам войны38.
На территории Германии общество квакеров сотрудничало с Информационно-справочным центром помощи немцам за границей и иностранцам в Германии (Auskunft- und Hilfsstelle fur Deutsche im Ausland und Auslander in Deutschland), оказывало помощь в основном британским подданным, заключенным в лагеря гражданских пленных в Рулебене и Хольцминдене39. Также оно взаимодействовало с квакерской организацией «Чрезвычайный комитет помощи» (FEC) и совместно с Международным комитетом помощи гражданским пленным, располагавшимся в Цюрихе (Internationale Hilf-skomitee fur Zivilgefangene), пыталось добиться освобождения интернированных лиц и проводить обмены гражданских пленных воюющих государств. Чтобы успешно выполнить эту миссию, нужно было взаимодействовать с правительствами воюющих государств, что заставляло квакеров дистанцироваться от пацифистского крыла. Общество квакеров помогало и немцам, «застрявшим» в других странах вернуться в Германию. Также квакеры выполняли посредническую миссию в отправке корреспонденции интернированных и способствовали бесконфликтной работе других организаций, оказывавших гуманитарную помощь, взаимодействуя прежде всего с Международным комитетом Красного Креста и Христианским сою- зом молодых людей. Представителей квакеров допускали с инспекцией в лагеря, куда, например, в России или Германии, посланцам Красного Креста вход был закрыт.
Не менее важными акторами по оказанию гуманитарной помощи были профессиональные сообщества и простые местные жители. Известный пример - помощь профессора истории Т. Шимана профессору Н.И. Карееву в выезде из Германии, где тот был застигнут войной. Шиман содействовал самоорганизации российских гражданских лиц в Берлине, способствовал созданию двух комитетов помощи русским, которые помогали задержанным в Германии русским получать банковские переводы, посылки40.
Профессиональные сообщества оказывали поддержку конфини-рованным в Германии гражданским лицам. К категории конфиниро-ванных относились многие русские студенты, которым не позволили покинуть Германию. В августе-сентябре 1914 г. все иностранные студенты были отчислены из немецких университетов. Какая-то часть из них оказывалась на короткое время в лагере для гражданских пленных, то есть они обретали статус интернированных, потом их выпускали, но, например, в Геттингене их отпустили под поручительство немецких профессоров: они не могли покидать город и должны были регулярно отмечаться в полиции. Академическое сообщество Германии оказывало им всяческую поддержку, даже те профессора, которые подписали знаменитое шовинистическое воззвание «К культурному миру», помогали студентам-иностранцам. Преподававшие в немецких университетах российские профессора и стажеры теперь не имели права вести занятия, но с помощью немецких коллег они получали работу в библиотеках или выполняли техническую работу в исследованиях немецких ученых41.
* * *
Мотивы гуманитарной помощи различных акторов могли быть не только сугубо альтруистическими, но также прагматическими и политическими. Акторы руководствовались собственными интересами, но стремление к успеху заставляло их идти на сотрудничество с государством и помогать не только своим гражданам.
Государство, в свою очередь, уже не могло игнорировать гуманитарные инициативы, однако приоритетом в условиях военного времени была для него национальная безопасность.
Рецепция гуманитарной помощи находилась нередко под влиянием эмоций enemy aliens и оценки зависели от того, кто оказывал им гуманитарную помощь. Восприятие гуманитарной поддержки держав-покровительниц определялось также политическим фактором и изменением их статуса в ходе Первой мировой войны.
Список литературы Гуманитарная помощь гражданским пленным в России и Германии: Акторы и рецепция (1914 – 1918 годы)
- Rachamimov I. Camp Domesticity Shifting Gender Boundaries in WWI Internment Camps // Cultural Heritage and Prisoners of War: Creativity Behind Barbed Wire. Oxford; New York, 2012. P. 296.
- Нагорная О.С. «Гости кайзера» и «политическая декорация»: Солдаты и офицеры многонациональных империй в лагерях военнопленных Первой мировой войны // Ab imperio. 2010. № 4. С. 225–245; Ипполитов С.С. «Украинцы категорически заявили, что они русские»: Военнопленные Первой мировой войны в европейской политике, 1918 – 1921 гг. // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Исторические науки. 2019. Т. 5 (71). № 3. С. 68–79; Ипполитов С.С. Русские военнопленные Первой мировой войны как гуманитарная проблема // Известия Смоленского государственного университета. 2020. № 2 (50). С. 174–188; Ростиславлева Н.В. Восприятие интернирования в годы Первой мировой войны в эгодокументах и литературных произведениях: На примере наследия К.А. Федина // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2020. № 1. С. 64–77.
- Davis G.H. National Red Cross Societies and Prisoners of War in Russia 1914 – 18 // Journal of Contemporary History. 1993. Vol. 28. № 1. P. 37.
- Scharping K. In russischer Gefangenschaft: Die kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen der deutschen Kriegsgefangenen in Rußland. Berlin, 1939. S. 10.
- Lemme W. Meine Erlebnisse in russischer Gefangenschaft. Leipzig, 1915. S. 13.
- Leistikow M. Zivilgefangener Nr. 759. Die Flucht eines deutschen Seemanns aus Rußland. Berlin, 1917. S. 17.
- Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата, 1893 – 1922. Москва, 1959. С. 281.
- Медников И.Ю. Российско-испанские отношения в годы Первой мировой войны // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2011. № 8. С. 21, 22.
- Медников И.Ю. Российско-испанские отношения в годы Первой мировой войны // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2011. № 8. С. 21, 22.
- Cоловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата, 1893 – 1922. Москва, 1959. С. 257, 258.
- Медников И.Ю. Российско-испанские отношения в годы Первой мировой войны // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2011. № 8. С. 21, 22.
- Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 3333. Оп. 10. Д. 4. Л. 3.
- Stibbe M. Civilian Internment during the First World War: A European and Global History, 1914 – 1920. London, 2019. P. 5, 6.
- Sturfelt L. From Parasite to Angel: Narratives of Neutrality in the Swedish Popular Press during the First World War // Caught in the Middle: Neutrals, Neutrality and the First World War. Amsterdam, 2012. P. 105–120.
- Румянцев Н.Е. Как живет Германия во время войны и чем она сильна? (По личным воспоминаниям гражданского военнопленного). Москва, 1917. С. 29–34; Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 70. В.И. Герье. Картон 93. Ед. хр. 17.
- Шварц-Бостунич Г. Между Россией и Германией. Москва, 2019. С. 176.
- НИОР РГБ. Ф. 70. В.И. Герье. Картон 93. Ед. хр. 17. Л. 45.
- Borgeaud C. Switzerland and the War // The North American Review. 1914. Vol. 200. № 709. P. 877.
- Шатохина-Мордвинцева Г.А. Интернированные военнослужащие и бельгийские беженцы в нейтральных Нидерландах в годы Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 2018. № 1. С. 204–220.
- The International Prisoners-of-war Agency. The ICRC in World War One. Geneva, 2007. P. 10.
- Stibbe M. The Internment of Civilians by Belligerent States during the First World War and the Response of the International Committee of the Red Cross // Journal of Contemporary History. 2006. Vol. 41. №. 1. P. 15–19.
- Шварц-Бостунич Г. Между Россией и Германией. Москва, 2019. С.92–93; Страхович А.И. В Берлине во время войны. Петроград, 1914. С. 41, 42.
- НИОР РГБ. Ф. 70. В.И. Герье. Картон 93. Ед. хр. 17. Л. 44.
- Асеев И.А. Гуманитарно-правовая деятельность Российского общества Красного Креста (1867 – 1920 гг.). Уфа, 2012. С. 10, 11.
- Leistikow M. Zivilgefangener Nr. 759. Die Flucht eines deutschen Seemanns aus Rußland. Berlin, 1917. S. 14, 15.
- Ibid. S. 15.
- Асеев И.А. Гуманитарно-правовая деятельность Российского общества Красного Креста (1867 – 1920 гг.). Уфа, 2012. С. 15, 16.
- Irwin J.F. Making the World Safe: The American Red Cross and a Nation’s Humanitarian Awakening. Oxford; New York, 2013. P. 58.
- Irwin J.F. Making the World Safe: The American Red Cross and a Nation’s Humanitarian Awakening. Oxford; New York, 2013. P. 75.
- Вебер М.И., Суржикова Н.В. Военнопленные Первой мировой войны на Востоке России: Взгляд Йохана Принса // Диалог со временем. 2014. № 47. С. 342.
- Вебер М.И., Суржикова Н.В. Военнопленные Первой мировой войны на Востоке России: Взгляд Йохана Принса // Диалог со временем. 2014. № 47. С. 342.
- Вебер М.И., Суржикова Н.В. Военнопленные Первой мировой войны на Востоке России: Взгляд Йохана Принса // Диалог со временем. 2014. № 47. С. 344.
- Hoffman C. In the Prison Camps of Germany: A Narrative of “Y” Service among Prisoners of War. New York, 1920. P. 50, 51, 79.
- Вебер М.И., Суржикова Н.В. Военнопленные Первой мировой войны на Востоке России: Взгляд Йохана Принса // Диалог со временем. 2014. № 47. С. 343; Dennett C.P. Prisoners of the Great War: Authoritative Statement of Conditions in the Prison Camps of Germany. Boston; New York, 1919. P. 116, 117.
- Rubinstein D. Essays in Quaker History. York, 2016. P. 95, 98, 102, 105–107, 110.
- Rubinstein D. Essays in Quaker History. York, 2016. P. 95, 98, 102, 105–107, 110.
- Kelly L. British Humanitarian Activity in Russia, 1890 – 1923. London, 2018. P. 21–23.
- The Library of the Religious Society of Friends. FEWVRC/PAM/1/2/1 (Bücher “In the Heart of Russia” und “Relief Work in Russia”; Artikel vom 30. April 1917 und 12. April 1918; Aufruf vom Januar 1918); Bauerkämper A. Sicherheit und Humanität im Ersten und Zweiten Weltkrieg: Der Umgang mit zivilen Feindstaatenangehörigen im Ausnahmezustand. Berlin; München; Boston, 2021. S. 643.
- Crangle J.V., Baylen J.O. Emily Hobhouse’s Peace Mission, 1916 // Journal of Contemporary History. 1979. Vol. 14. № 4. P. 736; Stibbe M. Civilian Internment during the First World War: A European and Global History, 1914 – 1920. London, 2019. P. 189; Bauerkämper A. Sicherheit und Humanität im Ersten und Zweiten Weltkrieg: Der Umgang mit zivilen Feindstaatenangehörigen im Ausnahmezustand. Berlin; München; Boston, 2021. S. 644.
- Кареев Н.И. Пять недель в германском плену // В немецком плену. Москва, 1915. С. 11–20.
- Maurer T. “Und wir gehören auch dazu…”: Universität und “Volksgemeinschaft” im Ersten Weltkrieg. Bd. 2. Göttingen, 2015. S. 746–764; Maurer T. “Akademische Bürger” und “feindliche Ausländer”: Ruβländer an deutschen Universitäten im Ersten Weltkreig // Россия и Германия в годы Первой мировой войны: Между безопасностью и гуманностью. Москва, 2019. С. 280–290.