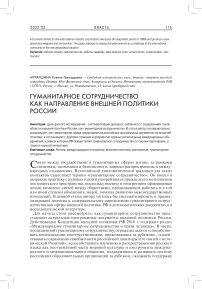Гуманитарное сотрудничество как направление внешней политики России
Автор: Муратшина Ксения Геннадьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель данного исследования - систематизация дискурса, связанного с содержанием такой области внешней политики России, как гуманитарное сотрудничество. В статье автор последовательно анализирует, как гуманитарная сфера представлена в российских программных документах по внешней политике, в соглашениях с другими странами и документах крупных региональных международных объединений, в рамках которых РФ осуществляет гуманитарное сотрудничество со своими партнерами, а также в научной литературе.
Россия, международные отношения, внешняя политика, дипломатия, гуманитарное сотрудничество
Короткий адрес: https://sciup.org/170195047
IDR: 170195047 | DOI: 10.31171/vlast.v30i3.9055
Текст научной статьи Гуманитарное сотрудничество как направление внешней политики России
С вязи между государствами в гуманитарных сферах жизни, за рамками политики, экономики и безопасности, широко распространены в международных отношениях. В российской дипломатической традиции для таких контактов существует термин «гуманитарное сотрудничество». Он вошел в широкую практику с нулевых годов и употребляется прежде всего в отношении постсоветского пространства, поскольку именно в этом регионе сформирован целый комплекс связей между обществами, продолжающих работать и в той или иной степени объединять людей, помогая развитию межгосударственных отношений. В данной статье автору хотелось бы систематизировать и проанализировать подходы к содержательному определению гуманитарного сотрудничества как сферы внешней политики РФ в дипломатических документах и в исследовательской литературе.
Для начала стоит рассмотреть, как гуманитарное сотрудничество представляют актуальные программные документы внешней политики России. Действующая Концепция внешней политики РФ 2016 г. содержит раздел «Международное гуманитарное сотрудничество и права человека». В части, посвященной гуманитарному сотрудничеству, отражены задачи «способствовать консолидации соотечественников, проживающих за рубежом», «содействовать сохранению самобытности российской диаспоры и ее связей с исторической Родиной», «способствовать изучению и распространению русского языка как неотъемлемой части мировой культуры и инструмента международного и межнационального общения, поддерживать и развивать систему российских образовательных организаций за рубежом, оказывать поддержку филиалам и представительствам российских образовательных организаций, расположенным на территориях иностранных государств»1.
Еще один документ – Основные направления политики РФ в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества 2010 г. – называет «культурно-гуманитарным сотрудничеством» «связи в области культуры и искусства, науки и образования, средств массовой информации, молодежных обменов, издательского, музейного, библиотечного и архивного дела, спорта и туризма»2. Здесь содержательное наполнение шире, чем в Концепции, но с отличающимся названием, которое выделяет культуру из гуманитарной сферы.
МИД РФ публикует материалы по гуманитарному либо «культурно-гуманитарному» сотрудничеству с разными странами и международными организациями. В них рассматриваются связи в культуре, образовании, науке, спорте3. Иногда к ним добавляется здравоохранение4. В то же время в онлайн-архиве материалов ведомства в разделе «Гуманитарное сотрудничество» есть новости и о культурных связях, и о деятельности по защите прав человека5.
Те же области контактов (культура, наука, образование, молодежные обмены, к которым добавляются контакты с соотечественниками, историко-мемориальная работа и содействие межрегиональным связям) включает в свою деятельность в программных и справочных документах Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Однако и в его материалах встречается вариация – сочетание «культурно-гуманитарные связи»6.
Как можно увидеть, полного единообразия в употреблении термина в официальных документах пока нет. Расхождения не являются принципиальными, но методологически они могут усложнять логику договоренностей или научных умозаключений.
Далее, стоит проследить, как гуманитарное сотрудничество представлено в дипломатических документах РФ с другими странами и в международных объединениях. Большая часть документов, регламентирующих связи в этой сфере, была подписана в 1990-х – начале нулевых годов. Часто они затрагивали конкретную область сотрудничества, но заключались и комплексные договоренности. В качестве примера можно привести Соглашение о сотруд- ничестве России и Казахстана в сферах культуры, науки и образования 1994 г.1, Соглашение о сотрудничестве России и Таджикистана в областях культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, информации, спорта и туризма 1995 г.2, Совместное заявление России и Германии о стратегическом партнерстве в образовании, научных исследованиях и инновациях 2005 г.3, Соглашение России с Индией о культурном и научном сотрудничестве 1993 г.4 и др. Поскольку термин «гуманитарное сотрудничество» еще не был в ходу, документы получали сложные составные названия в соответствии с тем, в каких областях сторонами было запланировано сотрудничество.
Во втором десятилетии XXI в. Россия подписала документы с некоторыми соседними государствами уже с использованием общего названия для всего комплекса гуманитарных связей5. В них термин «гуманитарное сотрудничество» используется в трактовке, включающей культуру, образование, науку, информацию, спорт и молодежные обмены. В то же время с государствами дальнего зарубежья РФ продолжила заключать соглашения не о «гуманитарном сотрудничестве» в целом, а о сотрудничестве в конкретных областях – культуре, образовании, туризме и т.д.6
В международных объединениях, в которых Россия наиболее активно развивает гуманитарную сферу взаимодействия, дискурс тоже различается. Соглашение о гуманитарном сотрудничестве СНГ дает четкое и конкретное определение понятия «гуманитарное сотрудничество», относя к нему культуру, образование, науку, архивное дело, информацию и массовые коммуникации, спорт, туризм и работу с молодежью7. В дальнейших документах
СНГ отчетность идет по этим направлениям1. В Шанхайской организации сотрудничества используются термины «сотрудничество в гуманитарной области», «культурно-гуманитарное сотрудничество», включающие культуру, образование, науку, здравоохранение, молодежь, СМИ, женские организации, спорт, туризм, экологию и борьбу с чрезвычайными ситуациями2. Здесь акцент сделан не на структурирование связей, а на продвижение «гуманитарных обменов», у которых есть разные направления. Нестройное разнообразие терминов («культурные обмены», «гуманитарные обмены», «культурные и гуманитарные обмены», «контакты между людьми»), обозначающих одно и то же (связи в культуре, науке, образовании, спорте, молодежные контакты, иногда здравоохранение), можно встретить в документах объединения БРИКС3.
Таким образом, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне внешних гуманитарных контактов РФ содержательное обозначение гуманитарной сферы зависит от терминологии для договоренностей, выбранной партнерами изначально. Что касается разницы в терминологии в документах со странами ближнего и дальнего зарубежья, то дело здесь в различии практики. Как правило, страны дальнего зарубежья и международные структуры в своих собственных актах обозначают термином «гуманитарное сотрудничество» защиту прав человека и гуманитарную помощь, а связи в культуре, науке, образовании, спорте, туризме и т.д. включаются во внешнюю культурную политику или регламентируются по отдельности [Табаринцева-Романова 2021].
Рассматривая российский академический дискурс, можно отметить, что авторы периодически публикуют исследования по гуманитарному сотрудничеству России с другими государствами и в рамках международных организаций [Чечевишников 2011; Пантелеев 2015; Комлева 2017; Павельева 2017; Исаев 2018]. Однако в публикациях часто варьируется терминология, употребляются схожие термины, не являющиеся синонимами, произвольно включаются или не включаются в гуманитарную сферу направления, а порой гуманитарное сотрудничество полностью соотносится с «мягкой силой» (на основе концепции Дж. Ная), хотя категории эти разные. Сотрудничество – процесс взаимодействия, а сила – величина, свойство, ресурс, которым могут обладать актор международных отношений и его политика. В целом, терминологические расхождения в изучении гуманитарного сотрудничества в академической среде многочисленны. Наличие таких расхождений усложняет анализ этой области международных отношений.
Что касается зарубежного исследовательского дискурса, то в нем термин «гуманитарное сотрудничество», как и в правовых документах, обозначает защиту прав человека и гуманитарную помощь. Такое различие в подходах уже изучено в отечественной науке [Великая 2012] и объяснимо, поскольку у разных акторов международных отношений и в разных дипломатических традициях существуют свой дискурс и непохожий на других опыт. Внешние же связи в культуре, образовании, науке, спорте, туризме, СМИ, молодежных обменах и т.д. в исследованиях внешней политики за рубежом либо включают во внешнюю культурную политику, либо рассматривают эти сферы по отдельности. К изучению контактов в них зарубежные авторы подходят преимущественно через призму «мягкой силы» [D’Hooghe 2015; Simons 2015; Steinbach 2016; Гусарова 2017].
Хотелось бы сосредоточить внимание на соотнесении гуманитарного сотрудничества с «мягкой силой», поскольку для российского дискурса это стало столь же распространенным, как и для зарубежного. Часто можно встретить заключение, что «мягкая сила» – это и есть цель гуманитарного сотрудничества. Однако методологически сотрудничество невозможно свести только к формированию и применению «мягкой силы». Двустороннее или многостороннее, оно, если осуществляется в соответствии с договоренностями и является равноправным и равноценным, не застывает в структуре, в которой был бы субъект и объект применения силы, пусть даже и «мягкой». Это комплекс международных отношений, в котором участвуют две или более стороны и который включает множество составляющих, вплоть до самого локального уровня – например, проведение олимпиады по русскому языку или соглашение о студенческом обмене. Каждая из сторон от этого может получить свои результаты. «Мягкая сила» – это лишь один из результатов развития государством такого сотрудничества со своими партнерами, результат его стратегии – на макроуровне. В остальном же во множестве направлений сотрудничества решаются задачи обществ, даже не обращающиеся к «мягкой силе» как таковой, а ориентированные на локальные аспекты, некоммерческие и прикладные, например, на совместное проведение археологических исследований, обмен опытом сотрудников библиотек, повышение квалификации специалистов, расширение участия в конференциях студентов и научных сотрудников, совместные тренировочные сборы спортсменов, обмен опытом тренеров, контакты с соотечественниками и т. д.
Наконец, соотносить гуманитарные связи с «силой», пусть даже «мягкой», нелогично семантически, поскольку они, как минимум на словах, теряют значение гуманистической направленности и начинают звучать как план военных действий или бизнес-план, например, выполнение ряда шагов ради получения нужного результата, выгоды. Если субъект отношений рассматривает своих партнеров только как объект «мягкой силы» или средство для ее формирования (что часто можно заметить в зарубежных подходах, где, как уже упоминалось, широко используется данное понятие), то создается неравноценная диспозиция. В этом случае мало шансов, что субъект будет воспринимать объект как равного себе, как самостоятельную культурную единицу, у которой тоже есть культура, традиции, история, идентичность и интересы, которые нужно учитывать.
Приобретение «мягкой силы» может быть результатом международных связей, но не единственной их декларируемой целью. Такая точка зрения тоже высказывается в российском академическом сообществе1, правда, нечасто. Кроме того, очень важные аспекты отмечались руководителями Россотрудничества в разные годы. Как справедливо отметил К.И. Косачев, если и обращаться к задаче формирования «мягкой силы», то нужно правильно понимать изначальную теоретическую концепцию, ориентироваться на «репутацию страны», «естественно притягательный образ страны»1. Е.А. Примаков ранее высказал еще одно важное и необходимое замечание: Россотрудничество занимается не «мягкой силой», а «гуманитарной политикой»2.
Подводя итог рассмотрению вопроса, можно отметить, что, хотя гуманитарная сфера международного сотрудничества всесторонне вошла в повестку дня внешней политики России и в отечественный академический дискурс, в ее определении, как и в подходах к ее изучению, до сих пор есть расхождения. Разнообразие терминологии можно встретить не только в рамках соглашений с разными партнерами, но и в документах одной организации и даже в рамках одного документа, хотя речь при этом идет об одном и том же. Использование в документах и исследованиях разных модификаций термина («культурное и гуманитарное сотрудничество», «культурно-гуманитарное сотрудничество») усложняет логику договоренностей и изучения. Произвольное изменение содержательного охвата гуманитарной сферы может оставлять за пределами рассматриваемого поля часть областей взаимодействия. В этом плане дискурс требует большей терминологической четкости.
Что касается соотношения задач международных гуманитарных контактов с «мягкой силой», то они не сводятся только к ней и имеют значительно более широкое содержание и направленность. Во всяком случае, они должны быть ориентированы на развитие всего комплекса связей, на добрососедские отношения, взаимный интерес, взаимное уважение, встречное движение обществ друг к другу, межнациональное согласие, знания друг о друге, борьбу с мифами и стереотипами, равное взаимодействие, взаимную поддержку – то, что нужно стране от зарубежных партнеров, то, что будет выручать нас в будущем, большее взаимопонимание в результате гуманитарных обменов.
Мир становится все более сложным, наполненным недобросовестной конкуренцией и вызовами безопасности. Понимание значения и задач гуманитарного сотрудничества, как и его стратегия, должны постоянно совершенствоваться, развивая ту огромную работу, что уже много лет ведется российской стороной в выстраивании многокомпонентных внешних связей.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 19-78-10060.
Список литературы Гуманитарное сотрудничество как направление внешней политики России
- Великая А.А. 2012. Международное гуманитарное сотрудничество: политические аспекты отечественных и западных подходов. - Право и управление. XXIвек. № 3. С. 63-72.
- Гусарова А. 2017. «Мягкая сила» России в Казахстане и Центральной Азии: как выполняет свои цели Россотрудничество? - Central Asian Analytical
- Соловьев В. Константин Косачев: Репутация России за рубежом откровенно занижена. - Фонд «Русский мир». 09.04.2012. Доступ: https://russkiymir.ru/publications/88043/?sphrase_ id=999491 (проверено 21.03.2020).
- Мы не занимаемся "мягкой силой", мы занимаемся гуманитарной политикой - Примаков. - Россотрудничество. 17.11.2020. Доступ: https://rs.gov.ru/ru/news/78783 (проверено 18.11.2020).
- Network. 9 июня. Доступ: http://caa-network.Org/archives/9305#_ftn3 (проверено 24.04.2022).
- Исаев А.С. 2018. Российско-китайское сотрудничество в гуманитарной сфере. — Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. 2017-2018. М.: ИД «ФОРУМ». С. 267-276.
- Комлева В.В. 2017. Религиозные институты в международном гуманитарном сотрудничестве. — Этносоциум и межнациональная культура. № 6. С. 130-141.
- Павельева Э.А. 2017. Международно-правовое сотрудничество по гуманитарным вопросам. М.: НП РСМД. 116 с.
- Пантелеев Е.А. 2015. Культурно-гуманитарное сотрудничество Итальянской Республики с Краснодарским краем во второй половине XX - начале XXI вв. -Политика и общество. № 9. C. 1239-1245.
- Табаринцева-Романова К.М. 2021. Международное гуманитарное сотрудничество: зарубежные подходы к изучению и реализации. - Сравнительная политика. № 4. С. 31-46.
- Чечевишников А.Л. 2011. Гуманитарное сотрудничество в СНГ. - Вестник МГИМО Университета. № 6. С. 47-50.
- D'Hooghe I. 2015. China's Public Diplomacy. Leiden, Boston: Brill. 443 p.
- Simons G. 2015. Perception of Russia's Soft Power and Influence in the Baltic States. - Public Relations Review. Vol. 41. Р. 1-13.
- Steinbach A. 2016. Competition, Cooperation, and Cultural Entertainment: The Olympics in International Relations. - Harvard International Review. Vol. 37. No. 2. P. 35-39.