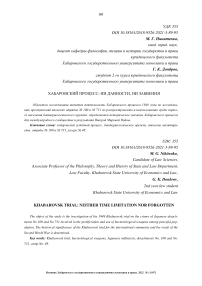Хабаровский процесс: ни давности, ни забвения
Автор: Никитенко М. Г., Донбров Г. К.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы юриспруденции и правоприменения
Статья в выпуске: 3, 2021 года.
Бесплатный доступ
Объектом исследования является деятельность Хабаровского процесса 1949 года по исследованию преступлений японских отрядов № 100 и № 731 по распространению и использованию среди мирного населения бактериологического оружия; определяется историческое значение Хабаровского процесса для международного сообщества и результата Второй Мировой Войны.
Хабаровский судебный процесс, бактериологическое оружие, японские милитаристы, отряды № 100 и № 731, лагерь № 48
Короткий адрес: https://sciup.org/143177853
IDR: 143177853 | УДК: 355 | DOI: 10.38161/2618-9526-2021-3-89-95
Текст научной статьи Хабаровский процесс: ни давности, ни забвения
Проблема применения и использования бактериологического оружия – одна из главных мировых проблем XXI века. Бесчеловечные эксперименты над живыми людьми с помощью бактериальных инфекций – угроза вымирания для всего человечества в будущем.
Хабаровский процесс – первый судебный процесс, на котором был рассмотрен данный состав преступления. Этот процесс проходил в городе Хабаровске с 25 декабря по 30 декабря 1949 года.
Закономерно, что именно Хабаровск был избран местом проведения данного процесса, так как согласно плану «Канто-куэн» он должен был одним из первых подвергнуться бактериологической атаке [5].
В качестве подсудимых на судебном процессе в Хабаровске выступали двенадцать бывших военнослужащих японской армии: бывший главнокомандующий японской Квантунской армией генерал Ямада Отозоо, бывший начальник санитарного управления той же армии генерал-лейтенант ветеринарной службы Кадзицука Рюдзи, бывший начальник ветеринарной службы той же армии генерал-лейтенант ветеринарной службы Такахаси Такаацу, бывший начальник отдела бактериологического отряда № 731 генерал-майор медицинской службы Кавасима Киоси, бывший начальник отделения отряда № 731 майор медицинской службы Карасава Томио, бывший начальник медицинской службы отдела отряда № 731 подполковник Ниси Тосихидэ, бывший начальник филиала отряда № 731 майор медицинской службы Оноуэ Масао, бывший начальник санитарной службы 5-й армии генерал-майор медицинской службы Сато Сюндзи, бывший научный работник бактериологического отряда № 100 — поручик Хиразакура Дзенсаку, бывший сотрудник того же отряда старший унтер-офицер Мимото Кадзоу, бывший санитар-практикант филиала № 643 отряда № 731 ефрейтор Кикучи Норими-цу и бывший санитар-лаборант филиала № 162 отряда № 731 Курусима Юдзи.
Все эти люди были обвинены в соответствии со статьей 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников».
Дело рассматривалось в открытом судебном заседании Военным трибуналом Приморского Военного округа в составе председательствующего – генерал-майора юстиции Черткова Д.Д. и членов: полковника юстиции Ильницкого М.Л. и подполковника юстиции Воробьева И.Г., запасного члена суда подполковника юстиции Щербакова Т.П., при секретарях: старшем лейтенанте Коркине Н.А., и лейтенанте Варавко. В.В. Государственное обвинение поддерживал государственный советник юстиции 3-го класса Смирнов Л.Н. Подсудимых защищали: генерала Ямада – член Московской коллегии адвокатов Белов Н.П., генерал-лейтенанта медицинской службы Кадзицука – член Московской коллегии адвокатов Санников С.Е.; генерал-лейтенанта ветеринарной службы Такахаси – член Московской коллегии адвокатов Зверев А.В.; генерал-майора медицинской службы Кавасима – член Московской коллегии адвокатов Богачев П.Я.; майора медицинской службы Карасава и майора медицинской службы Оноуэ – председатель Хабаровской краевой коллегии адвокатов Лукьянцев В.П.; подполковника медицинской службы Ни- си и поручика Хирасакура – член Хабаровской краевой коллегии адвокатов Бол-ховитников Д.Е.; старшего унтер-офицера Митомо, ефрейтора Кикучи и Курусима – председатель Приморской краевой коллегии адвокатов Прокопенко Г.К.
Заключение по бактериологическим и медицинским вопросам давала на суде экспертная комиссия в составе действительного члена Академии медицинских наук Союза ССР Жукова-Вережникова Н.Н., полковника медицинской службы Краснова В.Д., заведующего кафедрой микробиологии Хабаровского медицинского института, профессора Косарева Н.Н., доцента кафедры микробиологии Хабаровского медицинского института Ливкиной Е.Г., подполковника ветеринарной службы Александрова Н.А., паразитолога Козловской О.Л. [4].
В ходе предварительного следствия и непосредственно судебного процесса дали показания шестнадцать свидетелей: Тамура Тадаси, Одээки Сигэо, Сасаки Ко-сукэ, Сэгоси Кионити, Куракадзу Сатору, Татибана Такэо, Фуруити Иосио, Канадзава Кадзухиса, Хотта Рёотиро, Минзой Киояси, Сайто Масатэру, Фукудзими Ми-цуёси, Кавабара Акира, Сакурасита Киёси, Хатаки Акира, Мисина Такаюки.
На суде были приведены доказательства преступных действий в виде показаний самих обвиняемых и свидетелей, которые были даны в ходе предварительного следствия.
Обратимся к географическому положению и непосредственной деятельности отрядов № 731 и № 100, в которых происходили различные виды преступлений, рассматривавшихся на Хабаровском судебном процессе.
Отряд № 731 был размещен в специально выстроенном городке в 20 км от города Харбин, в районе железнодорож- ной станции Пинфань, где располагались лаборатории и служебные здания. В декабре 1940 г. в соответствии с оперативным приказом по Квантунской армии отряд № 731 получил в свое подчинение вновь сформированные филиалы в Хай-лине, Линькоу, Суньу и Хайларе.
Отряд № 100 был расположен в районе местечка Могатон, в 10 км южнее г. Чаньчунь. Такое близкое расположение этих отрядов друг от друга позволяло облегчить связи между ними.
В обоих отрядах работали специалисты-бактериологи и технические сотрудники из разных районов Японии. В целях массового изготовления бактерий отряд № 731 имел производственный (четвертый) отдел. Производились в отряде № 731 опаснейшие смертоносные бактерии, в частности, бактерии холеры, чумы, сибирской язвы и других тяжелых заболеваний. Бактерии содержались в густой сметанообразной массе и поэтому измерялись в килограммах.
Функции отряда № 100 были аналогичны функциям отряда № 731 с тем отличием, что в нем производились бактерии, предназначенные для заражения скота и посевов (бактерии сапа, сибирской язвы, чумы рогатого скота, овечьей оспы, мозаики). В качестве распространителей смертоносных бактерий использовались блохи, подвергавшиеся заражению. Для разведения и заражения блох применялись мыши, крысы и другие грызуны, которые были отловлены специальными командами.
Взыскание способов и средств ведения бактериологической войны, проводившиеся в этих отрядах, сопровождались опытами на живых людях. Большинство из них, будучи зараженными различными заболеваниями, погибали в страшных муках. Те люди, которые выздоравливали, подверга- лись опытам повторно и, в конце концов, тоже погибали.
Как было установлено в ходе следствия, которое длилось около четырех лет, только в одном отряде № 731 ежегодно истреблялось не менее 600 военнопленных, а с 1940 года по день капитуляции Квантунской японской армии не менее 3000 человек [1].
Необходимо также заметить, что в отряде № 731 было 2600 человек. Среди них кадровых военных 3 генерал-лейтенанта, 6 генерал-майоров, несколько десятков старших офицеров, более 300 младших офицеров и прапорщиков. Далеко не все участники преступлений предстали перед судом и понесли наказание. Это объясняется тем, что личный состав отрядов № 100 и № 731, где велось создание бактериологического оружия, почти в полном составе были эвакуированы в Японию, и советские войска пленили лишь некоторых японских военных, имевших непосредственное отношение к подготовке и ведению бактериологической войны.
Помимо преступных опытов заражения различными тяжелыми заболеваниями, о которых было сказано выше, в отрядах № 100 и № 731 производились бесчеловечные эксперименты по обмораживанию конечностей. Свидетель Фуруити показал: «Группы маньчжур, китайцев, монголов, с закованными в кандалы ногами каждый раз в количестве от 2 до 16 человек выводились на мороз, где их под угрозой оружия заставляли погружать оголенные руки в бочки с водой, затем оголенные смоченные руки заставляли держать на морозе от 10 минут до 2 часов, в зависимости от температуры воздуха, и, когда наступало обморожение, отводили их (людей) в лабораторию при тюрьме».
Кроме того, из «любопытства» у подопытных вырезали целые органы. Кого-то подвергали запредельному рентгеновскому излучению. Кого-то ошпаривали кипящей водой или же тестировали на чувствительность к электротоку. Любопытные «ученые» иногда заполняли легкие человека большим количеством дыма или газа, а, бывало, вводили в желудок живого подопытного гниющие куски разложившейся плоти [3].
Особо следует сказать о применении пыток в этих отрядах. В «Руководстве по службе секретной войны» говорится о том, что пытка, причиняя физические страдания, должна поддерживаться и продолжаться таким образом, чтобы (допрашиваемому) не было иных способов избавиться от страданий, кроме дачи правдивых показаний [6].
Способы пыток должны быть такими, чтобы их можно было легко применять, без жалости поддерживая страдания допрашиваемых, но, чтобы на их телах в итоге не оставалось бы ран и шрамов.
После применения пытки необходимо убедить лицо, подвергнутое пытке, в том, что применение к нему пытки было вполне естественной мерой.
Итак, по итогу предварительного следствия было установлено, что направляемая генеральным штабом Японии и командующим Квантунской армии практическая деятельность бактериологических отрядов № 731 и № 100 заключалась в подготовке и ведении бактериологической войны и входила составной частью в общий план преступного заговора правящей элиты импералистической Японии.
Также было установлено, что для достижения своих преступных деяний японские преступники не останавливались ни перед какими злодеяниями, вплоть до бесчеловечных опытов над людьми и истреблениями нескольких тысяч путем насильственного заражения их смертоносными бактериями.
Уже во время суда производственную мощность отряда № 731 обвиняемый Кавасима оценил следующим образом: «...Производственный отдел, исходя из наличия производственной аппаратуры и степени её мощности, мог ежемесячно изготавливать до 300 кг бактерий чумы».
Обвиняемый Карасава дал схожие показания: «Производственную мощность отдела по изготовлению бактерий в течение одного месяца можно было довести... при условии переключения всей аппаратуры... до 300 килограмм бактерий чумы».
Государственный обвинитель Смирнов в ходе судебного разбирательства сказал о том, что по замыслам японских империалистов, бактериологическое оружие должно было принести неисчислимые бедствия и страдания всему миролюбивому человечеству. Поэтому суд должен, по его мнению, не только наказать преступников, но и предостеречь мировое сообщество от новой подобной.
Адвокаты подсудимых отмечали сложность защиты на данном судебном процессе. Они не отрицали всю тяжесть обвинений, предъявленных обвинением. Защитники в основном акцентировали внимание суда на исторических условиях развития Японии, которые требовали от нее ведения агрессивной политики. Они обращали внимание также на то, что их подсудимые были лишь исполнителями злосчастных действий руководства Японии по отношению к другим государствам.
Все подсудимые выступили с последними словами, в которых они признавали свою вину, раскаивались в своих преступных действиях перед судом. При этом многие из них отмечали то, что они, проведя почти четыре года в Советском Союзе, увидели гуманное отношение к ним со стороны советских людей, поняли, что СССР — это государство без расовой дискриминации. Также некоторые из них говорили, что надеяться на то, что заказчики этих злодеяний будут жестоко наказаны.
Военный трибунал после 5 дней судебного разбирательства 30 декабря 1949 года приговорил заключить всех подсудимых в исправительно-трудовой лагерь на различные сроки: генералов Ямада, Кадзицука, Такахаси и Кавасима на 25 лет, Карасава и Сато на 20 лет, Оноуэ на 12 лет, Митомо на 15 лет, Хирадзакура на 10 лет, Куруси-ма на 3 года и Кикучи на 2 года.
Судьба всех двенадцати бывших японских военнослужащих была следующей.
Лица, осуждённые на непродолжительные сроки, отбыли их полностью и были отправлены на родину. Лица, осуждённые на длительные сроки, были отправлены в исправительно-трудовой лагерь № 48, который находился в селе Чернцы Лежневского района Ивановской области в Иваново, только на семь лет, причём в достаточно комфортабельные условия.
Согласно инструкциям лагеря № 48 был определен следующий распорядок дня военнопленных: подъем, физзарядка – 07:00-08:00, 08:00-09:00 – завтрак, 13:00-14:00 – обед, массовые мероприятия (после завтрака или обеда). Когда их не было, генералы распоряжались временем по своему усмотрению. Ужин в 19:00-20:00, с 20:00 до 22:00 – политпро-светработа, отход ко сну – в 22.00-22.30. Находиться в своей комнате нужно было после 22 часов [2].
Нормы суточного довольствия для японских военнопленных были дифференцированы согласно приказу НКВД СССР и начальника Красной армии № 001117/0013 «С объявлением норм продовольственного снабжения для военнопленных японской армии» от 28 сентября 1945 г. (таблица 1) [2].
В лагерь № 48 мясные и молочные продукты поступали из подсобного хозяйства, хлеб был свой – его выпекали в местной пекарне. Часть продуктов завозилась с продовольственных складов г. Иванова. Согласно распоряжению НКВД СССР № 133 «О сборе, заготовке и пере- работке дикорастущей съедобной зелени в лагерях НКВД для военнопленных и интернированных» от 21 июня 1945 г. в качестве дополнения к рациону использовались грибы. Собирали их солдаты роты обслуживания, а контроль над сбором, сортировкой и приготовлением осуществляла медсестра [2].
Таблица 1. Норма суточного довольствия для военнопленных генералов, офицерского и рядового состава японской армии (на 1 чел. в день в граммах)
|
№ п/п |
Наименование продуктов |
Количество |
||
|
Генералы |
Офицеры |
Рядовые |
||
|
1 |
Хлеб из муки 96% помола |
300 |
300 |
300 |
|
2 |
Рис (полуочищенный) |
300 |
300 |
300 |
|
3 |
Крупа или мука (из зерна пшеницы, овса, ячменя и бобовых) |
100 |
100 |
100 |
|
4 |
Мисо (приправа к кушаньям из бобов) |
50 |
50 |
30 |
|
5 |
Мясо |
120 |
75 |
50 |
|
6 |
Рыба |
50 |
80 |
100 |
|
7 |
Масло сливочное |
30 |
- |
- |
|
8 |
Жиры животные |
10 |
20 |
- |
|
9 |
Жиры растительные |
5 |
5 |
10 |
|
10 |
Сыр |
20 |
- |
- |
|
11 |
Сахар |
40 |
30 |
15 |
|
12 |
Сухофрукты |
10 |
10 |
- |
|
13 |
Чай |
3 |
3 |
3 |
|
14 |
Соль |
20 |
20 |
15 |
|
15 |
Овощи свежие или солёные |
600 |
600 |
600 |
|
16 |
Папиросы |
20 шт. |
15 шт. |
- |
|
17 |
Спички (на месяц) |
3 коробки |
3 коробки |
- |
|
18 |
Мыло хозяйственное (в месяц) |
300 |
300 |
300 |
Кухня и столовая содержались в чистоте. Даже в самую жаркую погоду в пищеблоке не было мух. Ни один солдат не мог появиться на кухне в повседневной одежде. Более того, солдат не попадал на кухню, не побывав предварительно в душе. Рядом с кухней располагалась библиотека. Она постоянно пополнялась книгами. На высоком уровне в лагере было поставлено медицинское обслуживание и обеспечение лекарственными препаратами [2].
Японские военнопленные проживали в комнатах по 2-3 человека, при желании могли гулять в садике, примыкающем к корпусу. Свобода передвижения не была ограничена. В ночное время по коридору, в который выходили имеющие глазок двери всех комнат, ходил конвоир. Японцы участвовали во внутренних хозяйственных работах, увлекались садоводством и огородничеством.
После смерти Сталина и в связи с некоторым улучшением советско-японских отношений в середине 1950-х гг. лагерь № 48 неоднократно посещали различные японские делегации. Все разговоры с осуждёнными сводились главным образом к вопросу о возвращении их на родину. И указом Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии японских граждан, осужденных в Советском союзе» от 13 декабря 1956 года, все оставшиеся преступники, участвующие в Хабаровском военном трибунале, были досрочно освобождены и репатриированы на Родину. Вместе с тем, стоит сказать и о том, что и до этого Указа многие японские генералы, осужденные на долгий срок, ввиду болезней и престарелого возраста были также отправлены в Японию досрочно.
Говоря о Хабаровском процессе, его никоим образом нельзя расценивать как простую расправу над японскими военнослужащими.
Во-первых, имеются свидетельства, что советское руководство «торопило» соответствующих должностных лиц провести процесс до конца 1949 года, так как в 1950 году намечалось введение в СССР смертной казни. Таким образом, оно не имело намерения применить эту исключительную меру наказания к подсудимым.
Во-вторых, об этом свидетельствует судьба осужденных. Ведь осужденные на длительные сроки отбыли в тюрьме только 7 лет и были освобождены.
Уникальность Хабаровского процесса заключается и в том, что это был первый «бактериологический» судебный процесс, в котором признаны виновными и осуждены лица, готовившие войну с использованием оружия массового поражения. Хабаровский процесс сыграл огромную роль в разоблачении агрессивной политики и чудовищных преступлений японского милитаризма. Приговор и материалы Хабаровского процесса документально подтвердили антисоветскую направленность политики Японии еще задолго до того, как СССР объявил ей войну.
Ещё не все аспекты Хабаровского судебного процесса нашли своё отражение в исследованиях историков, не все документы этого процесса известны широкой обще- ственности и опубликованы в нашей стране.
Но все факты истории, которые были изложены в данной статье, позволяют нам задуматься о сохранении мира на Земле и продолжении диалога о полной ликвидации биологического оружия.
Список литературы Хабаровский процесс: ни давности, ни забвения
- Бондаренко Е. Ю. Судьбы пленных. Токийский и Хабаровский международные процессы над японскими военными преступниками и их последствия // Россия и АТР. 1993. № 1. С. 117-123.
- Корниенко Т. В., Талтынов О. В., Ширяева Е. В. Повседневная жизнь японских военнопленных в лагере №48 // Известия "ВГПУ". 2015. №3 (268). С.56-63.
- Пронин А. История Второй мировой : факты и интерпретации «Отряд 731-фабрика смерти» // интернет - газета «Столетие». 24.08.2015.
- Рагинский М. Ю. Милитаристы на скамье подсудимых. По материалам Токийского и Хабаровского процессов / М. Ю. Рагинский. - М. : Юридическая литература, 1985. 360 с.
- Рябов В. Н. Хабаровский процесс : факты и уроки // Последняя точка Второй мировой. Материалы Международной научно - практической конференции «Проблемы современной международной законности и уроки Токийского и Хабаровского процессов». М. : Юридическая литература, 2009. С.212-220.
- ФСБ России. «Руководство к секретной войне 1944 года» // РИА Новости. 09.08.2021. URL: https://ria.ru/20210809/dokumenty-1744983509.html (дата обращения: 14.08.2021