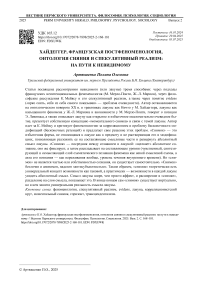Хайдеггер, французская постфеноменология, онтология сияния и спекулятивный реализм: на пути к невидимому
Автор: Артюшенко П.О.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (62), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению невидимого (или лакуны) тремя способами: через подходы французских неинтенциональных феноменологов (М. Мерло-Понти, Ж.-Л. Марион), через философские рассуждения К. Мейясу и его спекулятивный реализм, а также через понятие evidens («ярко сиять, себя из себя самого показывая» — проблема очевидности). Автор останавливается на онтологическом повороте XX в. и трактовках лакуны как Ничто у М. Хайдеггера, лакуны как насыщенного феномена у Ж.-Л. Мариона и анонимности у М. Мерло-Понти, говорит о позиции Э. Левинаса, а также описывает лакуну как открытое и избыточное ошеломительно очевидное бы-тие, презентует собственную концепцию «моментального снимка» в связи с темой лакуны. Автор идет за К. Мейясу и критикует феноменологию за корреляционизм и проблему бесконечности мо-дификаций (бесконечных ретенций) и предлагает свое решение этих проблем. «Снимок» — это избыточная форма, не относящаяся к лакуне как к предмету и не растворяющая его в модифика-циях, позволяющая разложить ее на составляющие смысловые части и развернуть абсолютный смысл лакуны. «Снимок» — посредник между сознанием и лакуной: «щелкает» абсолютное со-знание, оно же фиксирует, а затем раскладывает на составляющие уровни (чувственный, синтези-рующий и осмысляющий слой схематического познания феномена как некой смысловой схемы, а акта его познания — как переживания вообще, уровень течения внутреннего времени). Но «сни-мок» не является частью или собственностью сознания, он существует самостоятельно. «Снимок» безличен и анонимен, наделен «антисубъектностью». Таким образом, «снимок» теоретически есть универсальный концепт возможности как таковой, а практически — возможности в каждой лакуне увидеть абсолютный смысл. Смысл лакуны шире, чем просто аффект, и расширение в «снимке», разделение на слои смысла, показывает это. В конце концов сам «снимок» существует виртуально, но в нем зашита универсальная реальность смысла лакуны.
Феноменология, спекулятивный реализм, evidens, лакуна, корреляционистский круг, моментальный снимок, горизонт, трансцендентализм
Короткий адрес: https://sciup.org/147250986
IDR: 147250986 | УДК: 165.12 | DOI: 10.17072/2078-7898/2025-2-168-181
Текст научной статьи Хайдеггер, французская постфеноменология, онтология сияния и спекулятивный реализм: на пути к невидимому
Received: 16.10.2024 Accepted: 29.04.2025
Объектом исследования является невидимое (лакуна, тень) как концепт, предметом — невидимое в трактовке спекулятивного реализма, онтологии М. Мерло-Понти, описанное как evi-dens (лат. ярко сиять, себя из себя самого показывая). Цель исследования — раскрыть смысл лакуны (тени) сквозь призму трех теорий: М. Мерло-Понти и Ж.-Л. Мариона, спекуля- тивного реализма К. Мейясу и эвидентного подхода, частью которого является понятие моментального снимка. Задачи работы: а) описать смену парадигмы в начале XX в., которая возникла благодаря появлению Хайдег-геровской философии; б) описать то, как М. Мерло-Понти и Ж.-Л. Марион понимали теневое бытие; в) раскрыть сущность концепта «моментальный снимок»; г) раскрыть сущность эвидентного; д) подвести общий итог и отве- тить на вопрос, что же такое лакуна или Невидимое и как оно располагается в регионе эви-дентного. Метод исследования: феноменологический. Актуальность исследования: на данный момент существует немало статей о теневом бытии, но подход к нему через «моментальный снимок», который мы хотим показать, мы считаем его уникальным. Эта тема актуальна в настоящее время, неисчерпаема, некоторые из философов, к которым мы обращаемся, являются нашими современниками, а значит, их исследования на данный момент еще не завершены, и у нас есть шанс дополнить их.
Фундамент в виде классической онтотеологии с прочным основанием для сущего, постулирующей субъект-объектное противопоставление, теряет свою актуальность в XX в. благодаря философским поискам М. Хайдеггера. Новая парадигма «ломает» субъект-объектное противопоставление и лишает сущее основания, а также возвращается к «забытому» в прошлой парадигме бытию, становясь «философией процесса». Наследники этой философии — спекулятивные реалисты. Спекулятивный реализм в лице К. Мейясу обнажает проблему кор-реляционистского круга, где бытием обладает не мир и не сознание, а отношение между ними, а мы не можем выйти за пределы самих себя, чтобы познать «Великое внешнее», по выражению Д. Тригга, а иначе — «вещь-саму-по-себе». «Великое внешнее» — это нечто невидимое, лакуна, тень. Лакуны изучает неинтенциональная феноменология, влияние которой претерпели и философия Мейясу, и философия Тригга (представители — М. Мерло-Понти, М. Анри, Ж.-Л. Марион, Э. Левинас и др.). Свет выражает чистую возможность, о которой говорил К. Мейясу в своей концепции контин-гентности: возможно все, кроме невозможности чего-либо, возможно даже Ничто. В неинтенциональной феноменологии Ж.-Л. Мариона теневые феномены ослепляют, словно невыносимо яркий свет. Изучать их можно только исподволь, даются они совершенно не так, как обычные феномены. Они перегружены сами собой настолько, что все, кто их воспринимает, претерпевают аффект, шокированность поэтому — единственный известный способ схватить гиперфеномен. Примеры контр(гипер)феноменов: тотальность, лик Э. Левинаса, плоть, жизнь. В статье рассматривается онтология лакун, онто- логия сияющего бытия. Это особый вид транс-центенталистской теории, которая говорит об анонимном бытии чистой возможности через призму ужаса и распада субъекта и объекта, а значит, и их отношений, которые изучала феноменология Э. Гуссерля. Это онтология странного бытия (Т. Лиготти, Д. Тригг).
Регион невидимого у М. Хайдеггера и французских постфеноменологов
До начала XX в., со времен Платона и Аристотеля, единственным объяснением существования сущего в классической метафизике был его детерминизм неким предельным основанием, что было названо М. Хайдеггером онтотеологией. Хайдеггер пишет во «Введении в метафизику»: «Почему вообще есть сущее? Почему, т.е. какова основа (Grund) этого? Из какой основы проистекает сущее? На какой основе зиждется сущее? К какой основе восходит сущее?» [Хайдеггер М., 1998, c. 88], и «Вопрошание непосредственно направлено на основу» [Хайдеггер М., 1998, c. 110]. В античный период подобным основанием сущего было Единое, в Средние века — бог, в Новое время — субъект, и т.д., и каждая из этих основ была замкнута сама на себе, завершая круг философского вопрошания. Но, с опорой на сменившуюся в начале XX в. благодаря онтологическому повороту феноменологии Э. Гуссерля и М. Хайдеггера парадигму, мы понимаем, что уже не имеем в качестве обоснования существования сущего четко детерминированного высшего основания, а имеем, скорее, некую калейдоскопичную совокупность случайных феноменов, а также разделение сущего и бытия — т.н. «онтико-онтологическое различие»: «Бытие — это всегда бытие сущего и не “есть” само сущее» [Молчанов В.И., 2007, c. 132]. Или, как писал С.В. Комаров, «бытие определяет сущее как сущее. Бытие — это всегда бытие сущего, но не само сущее» [Комаров С.В., 2007, c. 607]. Двадцатый век весь был буквально напитан этими установками и этими трактовками, они отразились практически во всех тогдашних изысканиях науки и философии.
Мартин Хайдеггер постулирует: феномен есть так, как он есть без фундаментальной субстанции, без основания: «…сущее открыто навстречу возможности небытия» [Хайдеггер М., 1998, c. 111] и «Сущее уже больше не есть наличное, оно становится зыбким, и это безо всякой оглядки на то, познаем ли мы сущее со всей определенностью или нет, безо всякой оглядки на то, понимаем ли мы его в полном объеме или нет. С того мгновения, как мы ставим его под вопрос, сущее как таковое колеблется» [Хайдеггер М., 1998, c. 111]. И только лишившись привычной опоры, являющейся конечным объяснением всем закономерностям существования объектов, мы задумываемся о бытии, которое было забыто буквально до начала XX в. — вот чего, по мнению немецкого философа, не доставало. Сущее оказалось в подвешенном состоянии опасности стать Ничто, оказалось «брошенным» в Ничто.
Бытие у Хайдеггера связано с ужасом: «…захваченность ужасом есть как расположение способ бытия-в-мире; от-чего ужаса есть брошенное бытие-в-мире…» [Хайдеггер М., 2006, c. 191]. Хайдеггер связывает ужас со «стихийной конкретностью», т.е. «вот-этой-конкретной-ситуацией-брошенности» некоего феномена, который вмещается в просвет здесь и сейчас, вызывая столкновение с ним сознания, выражающееся в прото-удивлении. Соответственно, феномен (и человек, в том числе как феномен для самого себя), брошенный в мир, находится в подвешенности своей ситуации, не осознавая этого, поскольку естественная установка не открывает данного уровня реальности, не открывает человеку его личной конкретной точки релятивного бытия. Со сменой установки, т.е. ἐποχή (или переводом всегда существующего повседневного мира наличностей в состояние бездействия), мы переходим к феноменологической установке рефлексии не выключенного мира трансцендентальной субъективности, что есть «своеобразный способ со-знавания» [Гуссерль Э., 2009, c. 98], не мешающий другим установкам. Смена установки позволяет нам видеть архитектонику опыта, «внутренность» опыта. Редукция нужна для изучения теневого бытия (лик, плоть, тотальность, жизнь и др.), т.к. оно не дается как обычное бытие, вызывая у нас состояние шока или как минимум удивления. Субъект уже дестабилизирован, на сцену выходят его тени, лакуны. Здесь примордиальным началом выступает плоть. Плоть — это «предшествующее опыту начало». Но она при этом имплицирована в опыте тела как схемы или образца. Плоть имманентна всем вещам — такова ее сущность.
«Расположение, было сказано выше, показывает, “как оно” человеку. В “ужасе” ему “жутко”. Здесь выражается ближайшим образом своеобычная неопределенность того, при чем присутствие находит себя в ужасе: ничего и нигде» [Хайдеггер М., 2006, с. 188]. Присутствие, находящее себя в ничто и нигде, — это и есть лакуна (тень). Она чужда всему обыденному, анонимна и бессознательна, это уже не обычное бытие. Именно тень вызывает состояние ужаса т.к. не связана с обыденностью и безосновна, являясь основанием самой себе, являясь абсолютным «бытием тьмы». «Жуть тут подразумевает однако вместе с тем “бытие-не-по-себе”» [Хайдеггер М., 2006, с. 188]. Ужас с его «не по себе» связан с неопределенностью, она его рождает. Ужас в каком-то смысле является механизмом выведения людей из естественной установки через осознание ими своего подвешенного состояния (а уже только потом его методологического преодоления в феноменологической установке) и осознания того, что они, оказывается, совсем не знают мира, раз встречаются с лакунами, меняющими представление о вещах в целом. Мир становится случайным, безосновным, что вызывает в нас тревогу и страх, и мы его выключаем, обращаясь к структурам опыта о феноменальном.
М. Мерло-Понти в «Феноменологии восприятия» пишет: «…восприятие несет в себе больше, чем я знаю в отчетливом знании» [Мерло-Понти М., 1999, с. 487]. Лакуна — это и есть то большее, что мы несем во взгляде. Бытие лакуны избыточно, данность — в пассивных синтезах. Для Мерло-Понти «…феноменология — это работа по возвращению “не-рефлексивного представления о мире”, которое предшествует субъективности» [Тригг Д., 2017, с. 80]. Нерефлексивный означает пассивный, с приставкой «-прото». Это то самое Великое внешнее, непознаваемое существование, которого учредил И. Кант своим концептом «вещи-самой-по-себе». К. Мейясу называет такую модель «слабой», ведь она постулирует мыслимость (не данность) познания объекта до его данности в опыте (сильная же модель вообще отрицала существование кантовского «объекта-до-данности»). Мерло-Понти и Марион введением своих теневых феноменов хотели вывести такие объекты из зоны не-данного, небытия.
Ж.-Л. Марион пишет: «…то, что мы моментально воспринимаем в созерцании, равно как и то, что мы мыслим в понятии, остается бесконечно беднее, чем мы способны увидеть в реальности» [Марион Ж.-Л., 2014, с. 83–84]. Лакуны или гиперфеномены находятся «по ту сторону» данности, но при этом даны. Как? Негативно. Как то, что пугает нас из-за нахождения в иной реальности — анонимной реальности, которая ограничена трансценденталист-скими коннотациями: смерть — это лакуна, но она все же нам как-то дана, через пустоту и небытие, как нечто без имени. Это онтологический статус лакуны — быть данной как небытие. Анонимность лакуны предшествует всем феноменальным данностям, сознанию, которое уже претерпевает распад.
Ж.-Л. Марион — автор концепции насыщенного феномена. Он пишет: «Взгляд не может вынести интенсивную величину созерцания, дающего насыщенный феномен» и «…речь идет о том видимом, которое наш взгляд не может вынести» [Марион Ж.-Л., 2014, с. 85]. Это и есть лакуны или гипер(контр)феномены. Насыщенный феномен вообще невозможно вынести, он настолько гигантский по отношению к точке нашего сознания, что она просто не может его вместить. Но ниже мы постараемся показать, что это не так, что мы все равно воспринимаем насыщенные феномены, пусть и через состояние аффекта или исподволь, пассивной данностью. Должен ли всякий феномен сообразовываться с единством опыта? Насыщенный феномен не сообразовывается. Плоть, к примеру, как гиперфеномен не является ни объектом интенциональности, ни ее актом, она существует независимо от сознания и его амбиций. Плоть — это не материя, не сознание и не субстанция. Плоть — пространство, поле, анонимная зона. Она не вписывается в привычный опыт, обладая собственным трансцендентальным единством плотского, у Ж. Батая — омерзительного и невыносимого. Она — место рождения всех феноменов, от привычных до пугающих. Эти феномены не возводятся к аналогиям восприятия, у них нет схем, рожденных воображением (схематизм Канта). Насыщение горизонта од-ним-единственным невыносимым феноменом опасно: его могут не опознать, не разложить. Наш «моментальный снимок» призван помочь в этом деле.
Далее, контрфеномен дает себя как абсолютный и познать его, соответственно, может лишь что-то абсолютное (абсолютное сознание), мир не в состоянии его принять, не только мы сами как личное, узко понимаемое сознание не в состоянии его схватить без шока. Такой феномен не обусловлен, т.е. не зависит от горизонта, он может либо насыщать, либо преумножать горизонт. «Насыщенный феномен не позволяет видеть себя как предмет именно потому, что он является с множественным и неописуемым избытком, который препятствует всякой попытке конституирования» [Марион Ж.-Л., 2014, с. 93]. Этот феномен в высшей степени виден, однако на него невозможно смотреть. Уклониться от собственного явления контрфеномен также не может, как не может свестись к условиям опыта, вместиться в какую-либо схему. Контрфеномен является вопреки условиям возможности опыта, в его случае возможен лишь контр-опыт. Я не может смотреть на него как на предмет, это нечто большее, чем простой предмет. Я теряет первенство в этом контр-опыте. Событие насыщенного феномена — это событие, которое лишает Я самого себя, переводит его в режим абсолютного. Я больше не отвечает за конституирование, насыщенный феномен будто сам себя конституирует в своем избытке (точнее, абсолютным сознанием, суженным до личного для более живого мгновения фиксации, в «моментальном снимке»). Феномен больше не сводится к сознанию, поэтому это некая «объективная» феноменология. Субъект должен преодолеть самое себя, чтобы ему открылся насыщенный феномен, совершить даже нечто более сильное, чем трансцендентальную редукцию, которая «выключает» личное бытие Я. Мы, разумеется, испытаем шок, если потеряемся в гиперфеномене, растворимся в нем, поэтому эти объекты пугают нас (например, пугает тотальность или плоть в хоррор-литературе или кинематографе).
Гиперфеномен нельзя описывать как смутный и иррациональный — напротив, он является самым ясным и открытым видом феноменов, об этом говорит Ж.-Л. Марион: «…только насыщенный феномен поистине является как сам феномен, как феномен себя самого и из себя самого» [Марион Ж.-Л., 2014, с. 96]. Открытость связана с чистой возможностью, явление насыщенного феномена ограничено бесконечным горизонтом, который он сам устанавливает (чтобы не потеряться в бесконечности, нам и будет нужен «снимок», но подробнее об этом ниже). Бесконечность — это само выражение чистой возможности, поэтому она пугает и ослепляет нас, никогда не даваясь как простой, «бедный» феномен. Насыщенный феномен начинается с кантовской доктрины возвышенного, у него нет ни формы, ни порядка, оно вызывает чувство несоразмерности гигантского.
М. Мерло-Понти пишет: «…как пассивные существа мы чувствуем себя заключенными в массу бытия, которое ускользает от нас» [Мерло-Понти М., 2006, с. 156]. Далее он говорит, что именно опыту принадлежит последняя онтологическая сила, и это понятно: любые феномены, а также лакуны, даны только в опыте, хотя лакуны и превышают его по сущности, а не коррелируют, как обычные феномены. Лакуны не вписываются в наши способности их познать, они всегда «нерассчитываемые». На то они и тени. Но мы можем созерцать их в состоянии аффекта, и так хотя бы что-то узнавать о них. Вещи коммуницируют с нами напрямую лишь постольку, поскольку мы тоже видимы, тоже являемся вещью, но лакуны несоизмеримы с нашими схемами или сущностями, которые мы накладываем на дающиеся вещи, чтобы они обрели бытие в нашем сознании, поэтому не могут напрямую коммуницировать с нами. «Снимок» поможет упростить этот процесс.
Э. Левинас сформулировал понятие «Il y a» для описания лакуны. Il y a описывает гиперобъекты, оно безлично, грани субъективного и объективного в нем стираются, оно есть вечное бдение, оно есть Иное и чистое различие. Внутреннее и внешнее в Il y a неразличимы. Il y a есть универсальное отсутствие, но парадоксально оно присутствует, пусть и за гранью идеализирующего, зарешечивающего мир картиной мира опыта. Мы можем описать его только исподволь, косвенно. Il y a — это «…нечто вроде густоты пустоты, шепота молчания» [Левинас Э., 2000, с. 39]. Позиция субъекта утверждает субъект в Il y a как «времен-ное-тождественное», противостоящее иному, и встает вопрос уже не об оппозиции сознание-мир, а о самом возникновении существующего как топики в лоне безличного существования. Событие возникновения, вмещения, появле- ния — это остановка анонимного трансцендентного Il y a, именно она делает анонимным настоящий момент времени, если в него не вмещается какое-то сущее, или же вмещается и быстро исчезает, а на его месте появляется новый конкрет. Этот момент никогда не пустует. Время призвано устранить невыносимость контакта с настоящим, течь в направлении раскрытия мгновения на человеческом языке, а не на языке времени. Мгновение прерывает анонимность, оно есть событие столкновения с бытием. Различие бытия и сущего держится в лице, которое есть отпечаток Il y a. Лицо противостоит форме и сущности, разрушает форму, приобретает черты наготы. Лицо — свидетельствование другого о самом себе, абсолютная подпись. Непосредственность наготы делает ее уклоняющейся от феноменов. Субъект, идея, сознание и структура лицом не обладают. Лицо схоже с экзистенциалами Хайдеггера, но принадлежит не области тождественного (нейтрального), а области иного, также лицо есть различие. Лицо нетотализируемо, не соотносится с тождественным, оно всегда Иное. Лицо — это отблеск Il y a или след, благодаря которому конституируется невидимое, лакуна.
Итак, иное или лакуна в представлении французских феноменологов — это анонимное, безличное существование, это Инаковость, ввергающая человека в шок, дающаяся через шок. Она познается лишь исподволь, в приоткрытом лице или следе, она абсолютна, это и есть то самое бытие-в-себе.
Критика феноменологии спекулятивным реализмом
Новая парадигма породила трудность, с которой хочет справиться К. Мейясу и которую хорошо сформулировал Д. Тригг: «…феноменологи-ческая традиция, некогда служившая образцом непогрешимости, стала символом неудачной попытки мыслить за пределами субъекта. Вместо этого ее метод, как утверждается, сводит мир вещей к антропоморфному миру, который неизбежно ограничен нерушимым союзом субъекта и мира» [Тригг Д., 2017, с. 13]. Контингентные же феномены, лакуны — это не антропоморфные феномены, они далеки от человеческого разума. Проблема феноменологии заключалась в антропоморфизации всего мира без учета Иного, которое было раскрыто позже феноменологами второй и третьей волн. Зависимость мира от сознания — пусть это и не солипсизм, но все равно зависимость «по образу и подобию» с конституированием как осмыслением и ноэмой, без которых нельзя ничего сказать о мире — была разрушена постулатами спекулятивного реализма.
Ничто всегда страшило М. Хайдеггера, в отличие от Квентина Мейясу и его концепции спекулятивного реализма. На фоне исследования онтологического поворота он писал, что «…мы больше не можем быть метафизиками, и мы больше не можем быть догматиками» [Мейясу К., 2015, с. 36]. Мы не можем вернуться к прошлой парадигме и постулировать абсолютное бытие Бога или субъекта. Он строит «дискурс о доисторическом», т.е. о том, можно ли говорить что-то о том, чего человечество не видело никогда (например, зарождение Солнечной системы). Дано ли человеку познать из точки настоящего момента времени далекое прошлое, которое останется для него «вещью-самой-по-себе»? Иначе, можно ли познать «вещь-саму-по-себе?» Речь идет о немыслимом, о том, что открыл Иммануил Кант как нечто существующее, но недоступное нам: бытие вне данности. Именно бытие вне данности и явилось камнем преткновения и предметом исследований спекулятивных реалистов, именно то, что проигнорировал и упустил Э. Гуссерль.
Мейясу постулирует полный отказ от принципа достаточного основания: «…и уничтожение, и постоянное сохранение определенного сущего — оба должны иметь возможность произойти безо всякого основания» [Мейясу К., 2015, с. 89]. Это — наследие онтологического поворота Гуссерля и Хайдеггера. Но Мейясу хочет избавиться от корреляционистского круга, созданного феноменологией, и обращается к рассуждению о контингетности (возможно все, кроме невозможности чего-либо). Суть этого рассуждения в том, что сознание и мир не даны отдельно друг от друга — существованием обладает отношение между ними, а отдельно друг от друга они им не обладают. В связи с этим мы не можем познать «вещь-саму-по-себе», ведь выйти за пределы корреляции невозможно. Мейясу хочет вскрыть этот круг, обнаружив перспективу для нового абсолюта, т.к. только он может открыть нам зону невидимого, «ве-щей-самих-по-себе» или лакун. Абсолют — это 174
«…сама возможность-быть-другим, о которой говорил агностик. Абсолют — это возможность перехода из теперешнего состояния к какому-либо другому состоянию без всякого основания» [Мейясу К., 2015, с. 79].
Может быть, мы и не можем мыслить абсолюты, но это не значит, что их нет вообще. Философы постмодерна требуют, чтобы абсолют прекратил быть рациональным, но это приводит к фидеизму (каждая вера стремится утвердить свой абсолют). Но нам нужен не религиозный абсолют. Новый абсолют — это жуткий «гипер-хаос возможности быть другим», угрожающая сила, способная разрушать вещи и миры или же вообще бездействовать независимо ни от чего. Он может воплотить любые кошмары. Это вечное возможное время-становление без закона, даже не как у Гераклита. Также для философа важно, что наше постулирование хаоса или контингентности — это «абсолютное онтологическое свойство, а не знак конечности нашего знания» [Мейясу К., 2015, с. 74].
Французский философ пишет: «…я не могу мыслить неоснование (т. е. равную и безразличную возможность всех вещей) только относительно мышления: потому что только мысля ее как абсолют, я могу деабсолютизировать все догматические варианты» [Мейясу К., 2015, с. 84]. Что это значит? Это значит полную объективность абсолюта, его независимость от нашего мышления, а значит, и от корреляцио-низма и господства субъекта. Субъект уже де-конструирован, он «шизофреничен», т.е. подвержен распаду. Остался лишь объект, который возможен и как бытие, и как ничто.
Далее, «…фактичность обозначает наше сущностное незнание о том, являются ли мир и все его инварианты контингентными или необходимыми» [Мейясу К., 2015, с. 75]. Фактичность — это форма или схема контингентности, а также это само признание контингентности. Применяется и к инвариантам (логические законы), и к любым феноменам. Принцип неоснования и контингентность вовсе не приводят нас к утрате рациональности. Принцип фактуально-сти, важный для философа, звучит так: «только фактичность не является фактической — т.е. только контингентность сама не является контингентной … принцип фактуальности состоит не в том, что контингентность является необходимой, а в том, что только контингентность яв- ляется необходимой» [Мейясу К., 2015, с. 116]. Лишь контингентность способна структурировать все формы мира — от бытия до ничто. Она — закон, она властвует над всеми вещами, видимыми и невидимыми. По сути, хаос становится проводником смыслов, невидимое и видимое становятся ограниченными безграничностью. Вещь-сама-по-себе — это «…фактичность трансцендентальных форм представления» [Мейясу К., 2015, с. 110], это невидимое, которое обладает свойством быть любым, и даже не быть. Невидимое формирует само себя, не упраздняясь при этом, т.к. упразднение существования немыслимо. В конце концов, невидимое (хаос) управляет мирами.
Итак, контингентное позволяет лакунам существовать в своем первозданном виде. Признание фактичности контингентного — шаг на пути к изучению лакун. Важно отметить, что путь спекулятивного реализма критичен по отношению к корреляционизму феноменологии, и предлагает понятие контингетности в качестве решения вопроса корреляционизма: контингентное существует вне зависимости от связи сознания и мира. Сама феноменология переосмыслена К. Мейясу, он — не феноменолог, а ее суровый критик.
«Моментальный снимок»
Мир в феноменологии коррелирует с сознанием, но одно не является порождением другого, и они связаны не через одну вещественность или одну сознательность. Их объединяет лишь точка, куда вмещает себя феномен в моменте собственного явления, выхода из области пота-енности в область непотаенности, т.е. явленно-сти и ясности. И в эту колеблющуюся границу между сознанием и миром, между потаенно-стью и непотаенностью, попадает случайно выбранный сознанием конкретный вариант явления мира через конкретный феномен, являясь при этом как бы одним из вариантов представления и самой границы. Дополним, что граница сама по себе ничем не наполнена, а является только организационным моментом опыта (до начала фиксации некоего феномена, скажем, лакуны, которая ее заполняет). На границе организовывается и первично структурируется опыт, а вот Теперь-точка является способом представить границу (поскольку они не одно и то же) как феноменальную ячейку, понимае- мую в качестве мгновения времени, всегда наполненным феноменом, в то время как граница сама по себе чиста от материи опыта. Так разделяются два аспекта одного и того же явления, объединенные «моментальным снимком» в единый концепт.
В связи с этим, «моментальный снимок» (далее — просто «снимок») — это онтологически ориентированное понятие, означающее один из способов метафорически представить границу между сознанием и миром. Снимок раскрывает в своей фиксации архитектонику опыта, т.е. все смысловые слои воспринимаемого феномена (чувственный, синтезирующий и осмысляющий, слой схематического познания феномена как некой смысловой схемы, а акта его познания — как переживания вообще, уровень течения внутреннего времени). «Моментальный снимок» также обобщает все собственные синонимы в трактовке границы-точки как наполненной феноменальностью ячейки трансцендентального опыта: и Просвет (поскольку это сияющее мгновение мира), и событие (ведь снимок сталкивает Я и мир в сознании, и это столкновение суть событие), и Теперь-точка (ведь столкновение происходит в точке настоящего момента времени), и платоновское «вдруг», и иные синонимы, обозначающие различные аспекты одного и того же явления. Таким образом, более логически выверенные определения «моментального снимка» таковы: это раскрывающий архитектонику опыта непреднамеренно зафиксированный нашим Я на границе между сознанием и миром определенный вариант явления этого самого мира, переданный через конкретно созерцаемый феномен. Иначе говоря, «снимок» — это фиксированное мгновение феноменальной реальности, выражение всего пассивно воспринимаемого, фонового мира в случайном феномене.
«Отблеск видим только краем глаза. Он не предстает целью нашего восприятия, это его вспомогательное, опосредствующее звено. Он невидим сам по себе, он позволяет видеть остальное» [Мерло-Понти М., 1999, с. 397]. Раз «снимок» выражает пассивное в случайном — он и есть форма лакуны или тени. Его мерцание — способ, которым лакуны еще могут нам даваться. Он — опосредующее звено, помогающее лакуне раскрыться в более приемлемом для нашего сознания виде — как феноменальной данности, которая уже не прото-данность, а то, что осталось от прото-данности в самом зафиксированном моменте. Аффект все же более приемлемый способ показать лакуну, но зато нам тяжело структурировать свои впечатления, а «снимок» позволяет это сделать.
«Снимок» позволяет образовать схему для гиперфеномена, внести в его существование структурирующий смысл. После различения уровней седиментации смысла мы уже не сможем ошибиться при опознании насыщенного феномена. «Снимок» борется с шумом вокруг феномена хотя бы тем, что это способность фиксировать непреднамеренно, а значит, не воспринимая контрфеномен как предмет. Гиперфеномен все же как-то дан в созерцании, несмотря на то что ускользает и растворяет Я в своем избытке. «Снимок» помогает Я интегрировать опыт и самое себя. Гиперфеномен превосходит принцип всех принципов, т.к. обычного созерцания недостаточно для восприятия такого объекта, — соответственно, к этому «снимку» прибавляеися способ восприятия лакуны.
«Снимок» анонимен точно так же, как анонимен опыт о гиперфеномене или лакуне. Поэтому между ними легко провести корреляцию, но сама анонимность не подлежит никаким корреляциям, так что от корреляционизма, за который критикуют Гуссерля, «снимок» как концепт уходит. Неограниченную возможность лакуны он закрывает в рамки открытого и ничем не обусловленного кадра, который есть лишь релятивный росчерк пера на бумаге реальности. «Снимок» также позволяет удержать живую реальность, не отдающуюся в нем никаким «ничтожащим» модификациям, за которые Гуссерля критикуют. «Снимок» раскрывает уровень простого созерцания живой жизни, не замутненного ничем, до которого Э. Гуссерль так и не дошел, по мнению М. Анри.
Также важно сказать, что мы — не «хозяева» «снимка». Он, порождаемый абсолютным сознанием, существует в своей абсолютной реальности. Конкретное сознание расширяется до абсолютного, чтобы принять «снимок», обезличиваясь в эпохе, во всех трех редукциях разом («снимок» совершает их все одновременно). Он наполнен смыслом, но все же мы рискнем назвать его «избыточной формой для избыточного», его работа — предоставлять абсолютный смысл. «Снимок» все же постигает не вещи-в-себе, а вещи-для-нас, но делая акцент на Ином, на структурировании его сумбурной природы, на попытке его осмысления. Нам доступны некие моменты Иного для структурирования — вот «снимок» и структурирует их в одном акте фиксации. «Снимок» есть своеобразный способ трактовать Иное сквозь силу абсолютного смысла, который нам доступен. Это может быть и «шокирующий» смысл, но шок можно пережить, а уже потом подходить к тому, что шокировало, с рациональной точки зрения. За адаптацию к шоку и отвечает «снимок». В этом плане «снимок» постигает лишь насыщенные феномены. В силу присутствия абсолютного смысла данные Иного обращаются в человеческую сторону, при этом имея приближенную к человеку избыточную форму «снимка». Априорное представление в самом себе дается именно «снимком», поскольку он есть «овнешнение абсолютного сознания». Абсолютное сознание приобретает «конечность» в виде снимка, собственную «закругленность».
Стоит отметить, что абсолютный смысл — это не смысл «вообще», не определение смысла, что он есть такое, а «абсолютная получело-веческая ясность невидимого». Конечно, он является ориентиром, а не гипостазированной сущностью. Он виртуален, затронут трансцендентальным сознанием, вместе с тем он есть постоянное пребывание в актуальности, событии. Он пребывает в той самой августиновой «вечности», являя собой объединение абсолютов. Он результат процесса фиксации, где сам фиксированный предмет опыта разворачивается в абсолютной перспективе. Горизонт предмета опыта становится абсолютным, чистым горизонтом в силу избыточности формы, в которой выступает.
Об уникальности границы-точки так говорит М. Бахтин в изложении В. Лехциера: «Динамизм и неповторимость связаны друг с другом, поскольку свершающееся, становящееся бытие может быть только всякий раз единственным, уникальным, неповторимым» [Лехциер В.Л., 2007, с. 86]. «Снимок» фиксирует эту уникальность, делает ее видимой. Парадоксальным образом здесь сталкиваются абсолютность «снимка» и случайность, уникальность, единичность того, что в нем фиксируется, того, что шокирует. И так мы поворачиваемся к конкретности бытия, оформленной «снимком». При этом «…бытие-событие, имеющее ко мне непо- средственное отношение, в моем переживании открывающееся и сбывающееся, не является моим продуктом, не находится в моей власти, не входит в сферу моего произвола» [Лехциер В.Л., 2007, с. 86]. Так же бытие-событие не является моим продуктом, как «снимок» — произволом человека. «Только в таком бытии, в единственном и едином бытии-событии, я действительно живу и умираю» [Лехциер В.Л., 2007, с. 87], и также только в «снимке» по-настоящему живет бытие, живой жизнью Иного, инобытия.
Обнаружение всего, делающего предмет знанием исходя из недостаточной его данности в опыте, — это и есть глобальная работа «снимка», именно он развертывает предмет, а построение слоев опыта имеет отдельную онтологическую значимость в сознании как абсолютном, не растворяющем в себе предмет, который всегда имеет природу Иного, а не Тождественного. Сознание растворяет в себе предмет, «снимок» же — нет. Но мы все же каким-то образом, а именно — через фиксацию, создаем бытие-в-себе «с человеческим лицом», если угодно. Предмет остается подлинным, но и развертывается благодаря фиксации «снимка». Предмет остается независимым, т.к. «снимок» не ангажирован опытом, он непреднамерен. Но наше абсолютное сознание здесь растворяется в абсолютном Ином через абсолютный смысл, предоставленный «снимком». Ясность он дает лишь потому, что фиксирует «разом и безо всякой индукции» [Шпигельберг Г., 2002, с. 50], по Ф. Брентано.
Что такое эвидентное?
Эвиденс (evidens) — это регион светящихся гиперфеноменов, ослепляющих своим сиянием лакун, которые уже зафиксированы «снимком» и неизменны относительно него, остаются сформированным «снимком» регионом бытия. Он воспринимается лишь пассивно: «Но есть и пассивное зрение, без направленного взгляда, например, при ослепляющем свете, который не разворачивает перед нами объективного пространства; свет перестает быть светом, становится мучительным для нас и сам захватывает наш глаз». [Мерло-Понти М., 1999, с. 404]. Эвиденс — это и есть свет, мучительный для нас, его «издает» лакуна или гиперфеномен, постигнутые в «снимке». Эвидентное — это ре- гион бытия, в котором находятся подобные шокирующие феномены с пассивной данностью. «Снимок» — это некое «опережающее» данность других феноменов бытие, некая прото-фигура бытия, избыточная форма опыта, развертывающая лакуну. Момент пассивного синтеза эвидентного бытия неделим и неуловим. Это о том, что субъект всегда подразумевает больше, чем то, что он реально видит. Подразумевание всегда пассивно, оно схватывает феномены исподволь, неверным взглядом, который иррационален и интуитивен. Но предоставлять нам подобные объекты иначе невозможно: если гиперфеномен будет предоставлен активным способом, то он ослепит нас своей избыточностью. Избыточный означает чрезмерно наполненный собой. Рассмотрим это на примере тела: «…истоки тела обнаруживаются на пределе описания, по ту сторону опыта и в предшествовании субъективности» [Молчанов В.И., 2007, с. 46]. Это значит, что тело — предельное понятие, оно неописуемо привычным языком корреляции, у него нет коррелята, оно само есть пространство, где разворачивает свое присутствие, оно независимо от сознания и мира, а также от их отношения. Раз субъект шизофреничен, остается говорить о целостности тела, но и оно не целостно, а представляет собой лишь зазор, разлом.
Феномен как «пустое x», о котором пишет Гуссерль («…чувственное наполнение данного в восприятии всегда принимается за нечто иное, нежели истинная вещь, сущая как таковая, однако непристанно же и субстрат, носитель (пустое x) воспринимаемых определенностей…» [Гуссерль Э., 2009, с. 122]), обезоруживающе пуст, поскольку соотнесен с анонимной абсолютностью эвидентного момента как с возможностью бытия чего-либо в некоей форме или схеме этого бытия. А «снимок» наполняет его смыслом, делает ощутимым. Эвиденс — это не субстрат, это регион, это то, что нам дает «моментальный снимок», это сингулярная точка, в которой и есть, и нет ничего феноменального, т.е. вроде бы гиперфеномены присутствуют в ней, она является вместилищем, но и сами эти гиперфеномены не даны как обычные феномены. Они как бы есть сверх того, что является феноменами. Они ослепляют нас, если мы не вооружены редукцией и не можем «выстоять» перед их жутким светом анонимности.
Анонимное бытие есть бытие-открытым или Открытость как таковая, которая царит в эви-денсе как в регионе освещенных абсолютным сознанием гиперфеноменов.
Раз регион эвидентного открыт, значит, он бесконечен, он множественный и все больше разрастается, пока мы воспринимаем странное бытие: «“Странность” — это всегда “сторон-ность”, всегда открытость многих сторон, многих аспектов, открытость не такая, что я вижу эти аспекты, а что я обречен на то, что один аспект сменится другим аспектом, видение изменится» [Слово versus язык…, 2019]. Но нужно понять, что «снимок» делает эту бесконечность управляемой, фиксирует и не дает модифицироваться явлению лакуны. Почему эвидент-ное — это странное? Потому что, а) оно не дано как обычное феноменальное бытие, б) оно пугает тем, что избыточно, а если уже есть аффект — значит, мы столкнулись со странным. Лакуна всегда странна, она никогда не похожа на что-либо привычное. Ничего похожего на этот ослепляющий свет мы еще не видели. Он занимает весь наш ум и ввергает в состояние ужаса. Ужасен он потому, что избыточен, а любая избыточная структура позволяет себя изучать только пассивно, исподволь, в неясности, хотя Ж.-Л. Марион предпринял попытку хотя бы как-то описать ее: как шокирующую; это самый верный способ ее описания.
Открытость и избыточность заслуживают отдельного изучения и формирования науки о них хотя бы потому, что присутствуют в нашей жизни неустранимо. Эвидентное еще и трансцендентально, и значит, мы можем возродить традицию трансцендентальной философии, т.к. эвидентное суть наивысший регион бытия, чистая возможность, воплощенная в гротескных образах писателей хоррора, каждый из которых воспринимается активно, но при этом свет из них (очевидность, истина) воспринимается пассивно. Само сияние — это и способ представить, что такое хаос, безумие и отсутствие привычной логики, оно контингентно. Эвидентное как сформированный и открытый регион — это «все, что угодно» в самом прямом смысле слова, будь то отделенная от тела голова с лапками, которая хотела произвести свою собственную копию, из фильма Д. Карпентера «Нечто», или же странный дар главного героя в книге С. Кинга «Сияние», объединяющий три совер- шенно несовместимые способности: предчувствие будущего, телепатию и интуитивное чувствование эмоций других людей на расстоянии.
Роже Кайуа писал об эвидентном, называя его сверхъестественным: «…сверхъестественное проступает лишь в деталях, незаметных поверхностному взгляду» [Кайуа Р., 2006, с. 16]. Эви-дентное постоянно пересобирается, обновляется как регион благодаря принадлежности к ореолу возможности возможностей, где действительно может возникнуть все, что угодно, «…существуют акты, в которых я собираюсь воедино, дабы выйти за свои пределы» [Мерло-Понти М., 1999, с. 487]. Эти акты и нужны для того, чтобы схватить эвидентное, поскольку оно находится за гранью мыслимого и немыслимого.
Свет лакуны выворачивает реальность, реальность претерпевает метаморфозы, связанные с тяжестью этой самой лакуны. Регион эви-дентного — это такая преобразованная, изломанная реальность. Свет обладает лучом интенциональности, прямо как мы сами, но этот луч несоизмерим с человеком и человеческим лучом, он направлен на нас в то время, как мы совсем не ждем его. Поэтому мы испытываем шок, раз не ожидали явления лакуны, она будто бы сама выбрала нас для собственного явления, утверждения в нашем опыте, пусть она даже и больше него. Лакуна, наконец, это по-особому данная ошеломляющая очевидность и истина в облике сияющего нечто. Истиной оно является в том, какой эффект производит на нас: мы не можем сомневаться в том, что лакуна истинна, но не можем доказать ни ее истинность, ни ее ложность или искаженное существование. Она просто превышает всевозможное понимание, но при этом имеет модус истины и онтологический статус. Истину многие определяли как некий «свет» в противоположность тьме неведения, а лакуна «светит» сильнее, чем другие феномены. «Ярко сиять, себя из себя самого показывая» — это и есть пребывать в эвиденсе, откуда нет выхода: если постигнут гиперфеномен, то он уже не может оставаться недоступным. Повторимся еще и в том, что это не человеческий регион, мы можем только прикоснуться к нему, проводя фиксацию, а сам «снимок» уже работает отдельно от нашей воли, сливая нас с лакуной (в любопытстве, вызванном невидимым, которое всегда представляет собой интересную загадку), и одновременно различая нас (как человека, ограниченного собственным разумом и картинами мира, и Иное, которое не вписывается ни во что, кроме «снимка» и существует для нас постижимо только в эвиденсе). Эвиденс имеет человеческое лицо, но все же отличается от нашего сознания хотя бы отсутствием феноменологических модификаций (ретенциональных), которые затрудняли нам подход к предметной истине феномена.
Заключение
Мы расчертили поле косвенного феноменологического анализа — через «снимок» как избыточную форму опыта о невидимом. Корреляци-онизм феноменологии преодолевается и спекулятивными реалистами, и нами, поскольку «снимок» не уходит в модификации, целостно дает феномен, при этом не будучи данным сам, дает абсолютный смысл любым поискам невидимого. Тело М. Мерло-Понти, плоть, жизнь, тотальность, лицо Э. Левинаса, Великое внешнее (вещь-сама-по-себе или хаос), голова с лапками из фильма «Нечто», дар Денни Торренса — все это лакуны, тени, которые изучали многие феноменологи (Гуссерль, Мерло-Понти, Левинас, Марион) и современные философы (спекулятивный реализм Мейясу, философия хоррора Тригга). Писали о них и Хайдеггер, и Кайуа. Они вызывают у нас ужас, шок, т.к. даются иным образом, нежели обычные феномены. Они даются как открытые и избыточные, как контингентные. Они ослепляют нас, если мы пытаемся изучать их как обычные феномены — напрямую, как активно дающиеся; должны же мы их изучать как пассивно дающиеся, фоновые, анонимные. Мы совсем не ждем их, но они хотят вторгнуться в поле нашего опыта и словно бы пересобрать его. Они есть бытие-в-себе, недоступное и парадоксальное. «Снимок» лишь делает его ближе к нам при помощи абсолютного смысла — света, истинности, развертываемости, понятности исподволь. Исподволь, но абсолютно — вот парадоксальная черта теории «снимка» и эвиденса.
Трансцендентализм как общефилософский концепт возможности возможностей, анонимный горизонт всего мира как нельзя лучше описывает свойства эвидентного или лакун, теней. «Моментальный снимок» описывает то, как мы еще можем приблизиться к теням, если не из состояния шока, косвенно: простая фиксация мгновения данности лакуны тоже возможна, но только если она открывает внутреннюю архитектонику опыта о лакуне. Но данность из «снимка» — непрямая, прямая данность только из аффекта. Снимок сглаживает аффект благодаря тому, что мы видим, как фиксируем, пусть даже и неопределенную картинку, и раскрывает внутренние перспективы тени в плане ее обращения к инвариантам сознания (схемам, ноэме, картине мира), что на самом деле сложно рассчитать. Лакуна сама изъявляет желание нам видеться, обладает будто бы собственной волей, поэтому так нас пугает и настораживает — в этом солидарны все ее исследователи.
Очевидность и истинность — еще один уровень рассуждения о лакуне как evidens-е. Эви-дентное означает очевидное, сияющее из себя самого бытие, ослепляющее нас. Лакуна также — это фантастическое, способное даваться только богатому воображению, а не просто любому возможному опыту. Не каждый выстоит перед теневым бытием.
Что же такое лакуна? Это ослепляюще открытое, очевидное и истинное, теневое про-то(анти)бытие, выражающееся в «моментальном снимке» как в трансцендентальной форме или схеме этого бытия, избыточной форме, разворачивающей в своей непредвзятой фиксации все уровни смысла лакуны. Жизнь — это больше, чем просто существование живых существ, она не сводится к функционированию их организмов. Плоть — это анти-бытие, которое является сырой материей всех феноменов. Тотальность — это категория возвышенного, описывающая выжимку буквально из всего, это целостность всей вселенной, неустранимость ее. Таким образом можно описать все лакуны.