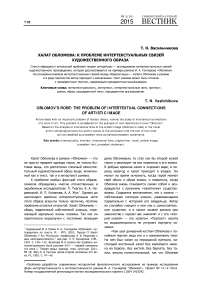Халат Обломова: к проблеме интертекстуальных связей художественного образа
Автор: Васильчикова Татьяна Николаевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 2 (20), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья обращена к актуальной проблеме теории литературы - исследование интертекстуальных связей художественного произведения, которая рассматривается на примере романа И. А. Гончарова «Обломов». На основании анализа интертекстуальных связей между образом вещи - халата Обломова в романе и в ряде претекстов автор приходит к заключению: текст романа может быть отнесен к прецедентным текстам, содержащим прецедентные высказывания.
Интертекстуальность, интертекст, интертекстуальные нити, претекст, роман, образ, прецедентный текст, прецедентное высказывание
Короткий адрес: https://sciup.org/14114072
IDR: 14114072
Текст научной статьи Халат Обломова: к проблеме интертекстуальных связей художественного образа
Халат Обломова в романе «Обломов» — это не просто предмет одежды героя, не только бытовая вещь, это достаточно сложный самостоятельный художественный образ вещи, включенный как в текст, так и в интертекст романа.
К проблеме особых функций этого образа-символа обращались многие отечественные и зарубежные исследователи: П. Тирген, В. А. Недзвецкий, И. П. Кулакова, А. А. Жук1. Однако до настоящего времени интертекстуальные нити этого образа вскрыты только частично, поэтому проблема остается открытой. Халат Обломова — образ, наделенный собственной жизнью, отражающей зеркально жизнь хозяина. Так как он практически неразлучен с постоянно лежащим дома Обломовым, то стал как бы второй кожей героя и реагирует на все перемены в его жизни. В добрые времена халат в хорошем виде, в период невзгод и халат приходит в упадок. Он может на время исчезнуть, когда герой меняет свой облик и образ жизни, и появиться, когда Обломов вновь становится самим собой и возвращается к прежнему «халатному» существованию. Создается впечатление, что у халата — собственная «история жизни», развивающаяся параллельно с историей его владельца. Автор не случайно говорит о нем как о самостоятельном существе, и в самом начале романа при знакомстве с героем нас знакомят и с его «второй кожей» — его халатом. «Портрет» халата по выразительности не уступает портрету хозяина:
«Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани»1.
Гончаров И. А. был тонко чувствующим и восприимчивым к красоте эстетом, не случайно уже современники отметили его талант живописца в слове. Дружинин сравнивает его словесную живопись с натюрмортами фламандских художников. Особенно выразительны его портреты — как людей, так и предметов, вещей. В романе «Обломов» он создает словесный портрет героя в халате, который можно сравнить с портретной жанровой живописью такого же сюжета, следуя при этом традиции так называемого «кабинетного портрета», однако иронически обыгрывает некоторые его традиционные жанровые черты. У Обломова есть кабинет, и стол письменный имеется, есть и халат, то есть в наличии вся «атрибутика творчества», но нет самого творчества. Обычно на таких портретах изображался сидящий в рабочем кабинете за письменным столом, в халате, персонаж, атрибутика — книги, приборы, коллекции, рукописи — указывала на его интеллектуальные занятия. Обломов же не сидит, а исключительно лежит в халате, а следы его умственных занятий в «кабинете» трудноуловимы. Характерно, что в парадных портретах в эпоху Просвещения подчеркивалась идея возможности усовершенствования своей личности, природной натуры с помощью умственных занятий. Сначала Обломов делает в этом направлении некоторые слабые попытки, но так и не приходит к ощутимым результатам, а в последних главах романа совершенно смиряется с тем, каким он является от природы. В портрете его халата обращает на себя внимание одна деталь: это восточный халат, без ворота, без застежки, с очень длинными рукавами, располагающий к неге и ничегонеделанию, а на кабинетных портретах обычно изображался халат удобный, теплый, часто роскошный, но надетый не для неги, а для творческой, интеллектуальной работы. Сама этимология слова «халат» восходит к арабскому khil at (одежда), восточное значение сохранено Гончаровым. Халат Обломова для дела не предназначен. Хотя в эпоху Гончарова и несколько ранее среди дворянства, особенно поместного, было принято говорить о праздности и лени, рассеянности и ипохондрии, это далеко не всегда было так на самом деле. Литераторы часто называют свои произведения «безделками», например, «Мои безделки» Н. М. Карамзина. Но к Обломову это относится в полной мере: он действительно бездельничает и предается лени. Но в то же время халат маркирует особое состояние свободы личности от официальной службы, от необходимости трудиться, и это выражено в герое в полной мере и ставит его неизмеримо выше всех его посетителей в первой главе, трепещущих перед чужой волей своего начальства и связанных служебными обязанностями.
Халат сопровождает Обломова во всех моментах его жизни, обладает свойством появляться и исчезать, ветшать и вновь возрождаться к жизни, словом, ведет себя как живое существо, а не просто предмет обихода, вещь. Так, халат надолго исчезает в период увлечения Обломовым Ольгой Ильинской. Меняется ритм и содержание жизни героя, и места верному спутнику его покоя и лени уже не находится. Влюбленность в Ольгу рождает другие, более возвышенные символы, сопровождается арией «Прекрасной богини» (Casta diwa), веткой цветущей сирени. Во второй и третьей части романа герой себе не принадлежит, старается во всем следовать словам Ольги и переодевается в деловой костюм — сюртук. Английский исследователь М. Эре усматривает три ритмически последовательных состояния героя, маркированные изменением его костюма: «statis — action — statis» (покой — действие — покой). Халат неизменно появляется в периоды «покоя» 2 .
Вслед за «периодом активности» происходит мучительный разрыв с Ольгой, и последует возвращение героя на круги своя, к привычному круговороту дней, когда он поселяется в доме Агафьи Матвеевны на Васильевском острове. Постепенно зарастает душевная рана и одновременно пробуждается чувство к хозяйке дома, которая станет его женой. В этих отношениях уже нет возвышенной духовности, но есть настоящее, реальное чувство, влечение. Соответственно, ленивый «идиллический» домашний уклад потребовал возрождения халата. Агафья Матвеевна становится его заботливой хранительницей, так как это личная вещь обожаемого человека. Халат, который исчез при переезде, найден, конечно, ею, хозяйкой дома, и появляется вновь в 12 главе третьей части романа.
«Еще я халат ваш достала из чулана, его можно починить и вымыть: материя такая славная! Он долго прослужит», — ласково сообщает она владельцу халата 1 .
О значимости этой вещи-символа говорит в своей работе «Роман Гончарова И. А. «Обломов»: путеводитель по тексту» В. А. Недзвецкий, определяя халат Обломова как «зримый знак обломовщины». Воцарившаяся в жизни героя после разрыва с Ольгой «обломовщина» и призвала вновь к жизни халат. «А зримым знаком ее («обломовщины») выступит опять-таки халат, который после долгого перерыва накинет на Илью Ильича, уже навсегда вернувшегося от Ольги в дом Пшеницыной и ощутившего вокруг себя «сон и мрак», его верный Захар» 2 .
Показательны присутствие и функции халата в сцене любовного объяснения Обломова с Агафьей Матвеевной. Героиня ведет себя очень скромно и тактично, делая вид, что не понимает истинного значения слов и намерений своего постояльца. Не отвечает прямо, но и не отталкивает его. И переводит объяснение в сферу, ей лучше всего знакомую, — быта, реальности, порядка в хозяйстве. Через эту родную для нее сферу она выразит свои чувства к нему.
«Что это у вас на халате опять пятно, — заботливо спросила она, взяв в руки полу халата. Кажется, масло? Она понюхала пятно. — Где это вы, не с лампадки ли накапало?
— Не знаю, где это я приобрел.
— Верно, за дверь задели? — вдруг догадалась Агафья Матвеевна. Вчера мазали петли: все скрипят. Скиньте да дайте скорей, я выведу и замою, завтра ничего не будет.
— Добрая Агафья Матвеевна, — сказал Обломов, лениво сбрасывая с плеч халат, — знаете что: поедемте в деревню жить…» 3 .
Халат и в дальнейшем сопровождает все рубежные ситуации в жизни героя, появляясь и исчезая, ветшая и вновь возрождаясь уже в новом шелковом обличье. В период материального упадка Обломова, оказавшегося в тисках мошенников и шантажистов, халат выступает как наиболее выразительный символ наступивших дурных времен:
«Халат на Обломове истаскался, и как бы заботливо ни зашивали дыры на нем, но он расползался везде и не по швам» 4 .
Халат, «вторая кожа» героя, стал неотъемлемой частью личности Обломова. С этим образом связано понятие застоя, он выражает антитезу всякого движения и развития. Показать же «всероссийский застой» — такова главная идейная задача всех трех частей «триптиха» Гончарова, и халат выполняет важную роль в ее решении. Но вот при посредстве Андрея Штольца вновь наступает «нормальная жизнь», хотя и лишенная духовных возвышенных интересов и стремлений. Эта «норма» изображается автором с мягкой иронией, но герой принимает ее и по-своему счастлив. Доход возвращается. В доме наступает материальный достаток, Обломов женится на Агафье Матвеевне. Последняя глава перед эпилогом, девятая, начинается ироническими словами автора: «Мир и тишина покоятся на Выборгской стороне». Герой возвращается к той традиционной «норме» существования, которая была установлена его родом, его предками, перестает не только искать иные формы жизни, но и беспокоиться о том, что в жизни его нет ни борьбы, ни духовного развития. Этого от него не требовали в доме его родителей, не требуют и сейчас. Покой же и есть высшее счастье для всякого обломовца.
С обретением героем гармонии бытия — «нормы» наступает преображение и возрождение и халата Обломова, как бы его второй кожи. Как справедливо замечает В. А. Недзвецкий, «самым точным предметным символом этой «нормы» стал халат и шелковое одеяло, подбитые ватой» 5 . Это тот комфортабельный футляр, в который так ласково и заботливо прячет его любящая хозяйка и жена от жизни. Тема «футлярной жизни», начатая Н. В. Гоголем в «Старосветских помещиках», развивается уже в собственной тональности И. А. Гончаровым, будет продолжена А. П. Чеховым.
«Агафья Матвеевна собственноручно кроила и простегивала их и трудилась с любовью, скромно награждая себя мыслью, что халат и одеяло будут облекать, греть, нежить и покоить великолепного Илью Ильича» 6 .
Из этого шелкового футляра, в который его заботливо прятали от жизни, герой перейдет в сорок пять лет в другой, печально известный всякому «футляр», в котором его и похоронят. Интертекстуальная нить к образу футляра-гроба, в который, наконец, надежно спрятался боявшийся жизни чеховский Беликов, очевидна.
В самом же тексте романа «Обломов» интертекстуальные нити связывают образ халата с целым рядом предшествующих литературных и культурологических образов и источников. Интертекстуальные нити может создавать не только образ персонажа в двух или более произведениях, но и образ предмета, вещи. Последовательно можно проследить это именно на примере образа халата, который позволяет восстановить в той или иной мере полно и его интертекстуальных предшественников, современников и «потомков». Интертекстуальные нити, идущие от образа этой вещи к другим претекстам, мно-жественны 1 :
-
1. Первый претекст: студенческая песня Н. М. Языкова «К халату» (1923 год, опубликована в 1959 году);
-
2. С ним непосредственно связан второй претекст: стихотворение П. А. Вяземского «Прощание с халатом» (1817, 1821);
-
3. Вероятно, оба эти претекста восходят к единому общему — миниатюре (стихотворение в прозе) Дени Дидро «Сожаление о моем старом халате» («Regrets sur ma vieille robe de chambre») (1772), которую переводил Вяземский и которая повлияла на смысл и содержание его собственного «гимна» халату;
-
4. Четвертым претекстом можно считать роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», где образ халата встречается дважды. Халат Дмитрия Ларина, отца Татьяны, выступает символом деревенского существования, апатии, лени, отсутствия интеллектуальных запросов и потребностей (строфа XXXIV, глава 2). Халат связан и с образом Ленского, ранняя смерть которого, возможно, помешала реализоваться такому же «халатному» будущему героя (строфы XXXVIII— XXXIX, глава 6).
Наличие множественных интертекстуальных нитей, ведущих к одному определенному образу, имеет свое культурологическое объяснение: образ халата соотносится с определенным культурным кодом, характерным для русской культуры XVIII—XIX веков. Халат изображается в литературе и в портретной живописи и привычно воспринимается читателем как символ безмятежного покоя, свободы от официаль- ных обязанностей, возможно, лени. Но соотношение и в другом: халат и хандра, «кропание» стихов, «ничегонеделание»2.
О соотношении образа халата в стихотворении Вяземского и претексте, которым в этом случае является миниатюра Д. Дидро, говорит в своей диссертации «Поэтическая рефлексия П. А. Вяземского» А. Р. Боковня: «В стихотворении «Прощание с халатом» П. А. Вяземского важна ориентация на источник — эссе Дидро «Сожаление о моем старом халате или совет тем, у кого больше вкуса, чем денег» (1772)» 3 .
Автор диссертации затрагивает вопрос пространства и времени в претексте (эссе Дидро) и стихотворении Вяземского и приходит к заключению, что одна из картин Дидро — кораблекрушение — пробуждает ассоциации автора с неотвратимым течением времени. И такой строй мыслей заимствуется при переводе Вяземским: «Вяземский описывает уже состоявшееся прошлое, творимое настоящее, возможное будущее по тем же законам воссоздания реальности, что и Дидро» 4 .
Дело в том, что в следующем по отношению к данному претексту тексте — романе «Обломов» халат является своего рода «хронометром», «отмечающим» различные этапы жизни героя, то есть тоже связан с течением времени. В связи с этим есть основания говорить о соотнесенности образа в тексте Гончарова и претексте — стихотворении Вяземского по этому ассоциативному признаку. Тем более что по смыслу и содержанию «гимн» халату у Вяземского и Гончарова совпадает только в определенных моментах. В «Обломове» халат, обволакивая героя, служит ему защитой от жизни с ее суетой и беспокойством, и только у Вяземского (и в претексте — у Дидро) халат раскрепощает от обязанностей и дает возможность погрузиться в творчество. Творческой активности, как в целом динамики и активности как таковой, так и не достигает герой Гончарова.
Прости, халат! Товарищ неги праздной!
Досугов друг, свидетель тайных дум!
С тобою знал я мир однообразный, Но тихий мир, где света блеск и шум Мне, в забытьи, не приходил на ум…
В гостиной я невольник,
В углу своем себе я господин…
(П. А. Вяземский «Прощание с халатом»).
Так, сдернув с плеч гостиную ливрею,
И с ней ярмо взыскательной тщеты,
Я оживал, когда, одет халатом,
Мирился вновь с покинутым Пенатом.
Вяземский передает образ ленивого счастья, которое так импонирует и Обломову:
У камелька, где яркою струею
Алел огонь вечернею порою,
Задумчивость, красноречивый друг,
Живила сон моей глубокой лени…
Но если у Вяземского с образом халата связан временный покой, отдых, то для Обломова образ халата в итоге связан с уже постоянным и вечным покоем. В последний период жизни герой неразлучен с халатом, ставшим второй его кожей, и уже никуда не уходит и не стремится уйти. Герой Вяземского после передышки возвращается опять к делам, к службе. Уходит, наконец, к творчеству:
Забот лихих меня обступит строй,
И ты, халат, товарищ лучший мой,
Прости! Тебя неверный друг покинет…
Но наступит момент — и вновь от суеты и тщеславия он будет рад вернуться к островку покоя и лени — своему халату.
Дай радость мне, уединяясь с тобою,
В тиши страстей, с спокойною душою,
И, не краснев пред тайным судией, Бывалого себя в себе найти.
Он уверен:
Гений мой, освободясь от уз,
Уснувшее разбудит вдохновенье…
Как часто, встав с Морфеева одра,
Шел прямо я к столу, где Муза с лаской Ждала меня с посланьем или сказкой, Домашний ой наряд ей был по нраву…
…Анакреонт, друг красоты и Вакха, Поверьте мне, в халате пил и пел…
Таким образом, значение образа халата как символа безмятежности и покоя в стихотворении Вяземского соотносится с образом халата
Обломова. Но есть и другая сторона смысла этого символа: халат соотносится в русской культурной традиции, и в том числе в стихотворении Вяземского, с поэтическим творчеством, интеллектуальной работой, и здесь значение образа в претексте и в романе Гончарова «Обломов» различно.
Можно прийти к заключению, что установление интертекстуальных связей помогает лучше понять идейный замысел произведения, характеры и мотивацию поведения его героев. В настоящее время интертекстуальный анализ становится одной из ведущих филологических стратегий, помогая, в частности, добиться объективности и точности в интерпретации авторского замысла и содержания произведения.
Приведем только один пример произвольного истолкования текста романа «Обломов». В работе Н. В. Головко «Стихотворение Н. Языкова «К халату» как источник романа И. А. Гончарова «Обломов» (источниковедческая гипотеза)» делается попытка установить характер связи между претекстом — стихотворением Языкова и текстом романа Гончарова. Наличие этой связи автор работы отмечает совершенно планомерно, но считать стихотворение «источником романа» — это позиция неверная. Работа опубликована в 1995 году, интертекстуальный анализ в это время еще не сформировался как самостоятельная филологическая стратегия. Автор допускает типичную для этого времени ошибку, подменяя характер связи, — вместо единичной интертекстуальной переклички говорит о «первооснове». Как мы показали, от образа халата идет несколько интертекстуальных нитей, тогда следовало бы признать, что у романа несколько «первооснов», что по сути абсурдно. Кроме того, в целом в романе «Обломов» присутствует огромное количество интертекстуальных нитей, ведущих к многочисленным и совершенно различным претекстам — первоисточникам. Стихотворение Языкова — только одна из таких нитей, «протянутая» к единственному, хотя и очень важному образу вещи — халату Обломова.
Таким образом, халат — это символический предмет, «вторая кожа» Обломова, может рассматриваться как сквозная художественная деталь. Это и художественный образ реальной вещи, и символ определенного образа бытия, и выразитель «нормы жизни». Интертекстуальные нити в романе И. А. Гончарова множественны, но все они рождаются в определенном культурно-историческом континууме, уже существовавшем к моменту создания текста романа. И здесь следует заметить, что образ халата в романе «Обломов», от которого неизбежно должны идти интертекстуальные нити не только к претекстам, но и к последующим текстам, более поздним, все-таки необычен и является своего рода рубежным. Рождается ли образ бухарского халата Аблеухова в романе «Петербург» А. Белого, кабинета и халата Версилова в романе Достоевского «Подросток», халата профессора Преображенского в повести М. Булгакова «Собачье сердце», — все они имеют единственный общий претекст — роман И. А. Гончарова «Обломов». Поистине «национальной» метафорой стало само словосочетание «халат Обломова», знакомое и понятное каждому, для кого русский язык — родной. В связи с этим есть, на наш взгляд, основание употребить термины «прецедентное высказывание» и «прецедентный текст» по отношению к роману «Обломов» по трем признакам: текст романа является элементом культурной памяти народа и регулярно используется в других, более поздних текстах; опорные фрагменты текста употребляются в устной и письменной речи и способствуют оживлению накопленного нацией культурного багажа; текст входит в понятие «сильные тексты», то есть постоянно востребуемые, значимые в национальной и мировой культуре в определенный исторический момент.
-
1. Гончаров И. А. Обломов. Роман : в 4 ч. Л. : Наука, Ленинградское отд-ние, 1987. 694 с.; Боков-ня А. Р. Поэтическая рефлексия П. А. Вяземского : автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2007. 18 с.
-
2. Головко В. М. Источники литературных произведений и проблемы литературоведческого комментария // Источники литературных произведений : пособие для учителя. Ставрополь, 1995. 218 с.
-
3. Денисова Г. Д. В мире интертекста: язык, память, перевод. М. : Азбуковник, 2003. 297 с.; Дидро Д. Сожаление о моем старом халате / пер. Г. И. Ярхо // Дидро Д. Сочинения : в 10 т. / под общ. ред. И. К. Луппола. Т. 4. М. — Л. : Academia, 1937. C. 53—59.
-
4. Жук А. А. Русская проза второй половины XIX века. М., 1981. С. 47—48.
-
5. Кристева Ю. Слово, диалог и роман // Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М. : РОССПЭН, 2004. С. 167.
-
6. Кулакова И. О халате как атрибуте интеллектуального быта россиян XVIII — первой половины XIX века // Теория моды: одежда, тело, культура. 2011. № 19.
-
7. Малаховская М. Л. Интертекстуальные связи в художественном тексте в сопоставительнопереводческом аспекте (на материале произведений К. С. Льюиса) : дис. … канд. филол. наук. СПб., 2007. 206 с.
-
8. Николина Н. А. Филологический анализ текста : учеб. пособие. М. : Изд. центр «Академия», 2003. 77 с.
-
9. Недзвецкий В. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: путеводитель по тексту. Серия Школа вдумчивого читателя. М. : МГУ, 2010. 224 с.
-
10. Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М. : Academia, 2000. 128 с.
-
11. Тирген П. «Халат Обломова» // Ars Philologiae: профессору А. Б. Муратову к дню шестидесятилетия / под ред. П. Е. Бухаркина. СПб., 1997. С. 140—142.
-
12. Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстов. Интертекстуальность в мире текстов. М., 2000. С. 38.
Список литературы Халат Обломова: к проблеме интертекстуальных связей художественного образа
- Недзвецкий В. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: путеводитель по тексту. М.: МГУ, 2010;
- Тирген П. Халат Обломова//Ars Philologiae: профессору А. Б. Муратову к дню шестидесятилетия/под ред. П. Е. Бухаркина. СПб., 1997. С. 140-142;
- Кулакова И. О халате как атрибуте интеллектуального быта россиян XVIII -первой половины XIX века//Теория моды: одежда, тело, культура. 2011. № 19;
- Жук А. А. Русская проза второй половины XIX века. М., 1981. С. 47-48.
- Гончаров И. А. Обломов. Л.: Наука, 1987. С. 8
- Ehre M. Oblomov and his Creator: The Life and Art of Ivan Goncharov Princeton. New Yersey: Princeton University Press, 1973. P. 163
- Гончаров И. А. Обломов. Л.: Наука, 1987. С. 263.
- Недзвецкий В. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов: путеводитель по тексту». М.: МГУ, 2010. С. 12.
- Гончаров И. А. Обломов. С. 263.
- Гончаров И. А. Обломов. С. 330.
- Недзвецкий В. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: путеводитель по тексту.
- Гончаров И. А. Обломов. С. 365.
- Боковня А. Р. Поэтическая рефлексия П. А. Вяземского: автореф. дис.... канд. филол. наук. СПб., 2007. С. 8
- Гончаров И. А. Обломов. Роман: в 4 ч. Л.: Наука, Ленинградское отд-ние, 1987. 694 с.; Боковня А. Р. Поэтическая рефлексия П. А. Вяземского: автореф. дис.. канд. филол. наук. СПб., 2007. 18 с.
- Головко В. М. Источники литературных произведений и проблемы литературоведческого комментария//Источники литературных произведений: пособие для учителя. Ставрополь, 1995. 218 с.
- Денисова Г Д. В мире интертекста: язык, память, перевод. М.: Азбуковник, 2003. 297 с.; Дидро Д. Сожаление о моем старом халате/пер. Г. И. Ярхо//Дидро Д. Сочинения: в 10 т./под общ. ред. И. К. Луппола. Т. 4. М. -Л.: Academia, 1937. C. 53-59.
- Жук А. А. Русская проза второй половины XIX века. М., 1981. С. 47-48.
- Кристева Ю. Слово, диалог и роман//Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М.: РОССПЭН, 2004. С. 167.
- Кулакова И. О халате как атрибуте интеллектуального быта россиян XVIII -первой половины XIX века//Теория моды: одежда, тело, культура. 2011. № 19.
- Малаховская М. Л. Интертекстуальные связи в художественном тексте в сопоставительнопереводческом аспекте (на материале произведений К. С. Льюиса): дис.. канд. филол. наук. СПб., 2007. 206 с.
- Николина Н. А. Филологический анализ текста: учеб. пособие. М.: Изд. центр «Академия», 2003. 77 с.
- Недзвецкий В. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: путеводитель по тексту. Серия Школа вдумчивого читателя. М.: МГУ, 2010. 224 с.
- Слышкин Г Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М.: Academia, 2000. 128 с.
- Тирген П. «Халат Обломова»//Ars Philologiae: профессору А. Б. Муратову к дню шестидесятилетия/под ред. П. Е. Бухаркина. СПб., 1997. С. 140-142.
- Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстов. Интертекстуальность в мире текстов. М., 2000. С. 38.