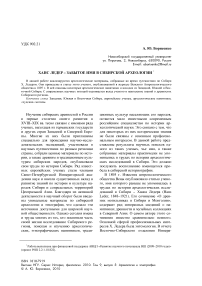Ханс Ледер - забытое имя в сибирской археологии
Автор: Борисенко Алиса Юльевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований, охрана археологического наследия
Статья в выпуске: 5 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В данной работе анализируются археологические материалы, собранные во время путешествия по Сибири Х. Ледером. Они приведены в статье этого ученого, опубликованной в журнале Венского Антропологического общества в 1895 г. В ней описаны некоторые археологические памятники и находки из Западной, Южной и Восточной Сибири. С современных научных позиций оценивается вклад ученого в накопление знаний о древностях Сибирского региона.
Западная, южная и восточная сибирь, европейские ученые, археологические памятники, "чудские" могилы
Короткий адрес: https://sciup.org/14737305
IDR: 14737305 | УДК: 902.21
Текст научной статьи Ханс Ледер - забытое имя в сибирской археологии
Изучение сибирских древностей в России в первые столетия своего развития в XVIII–XIX вв. тесно связано с именами ряда ученых, выходцев из германских государств и других стран Западной и Северной Европы. Многие из них были приглашены специально для проведения научно-исследовательских экспедиций, участвовали в научных путешествиях по разным регионам страны, собрали ценные материалы по истории, а также древним и традиционным культурам сибирских народов, опубликовали свои труды по истории Сибири. Ряд известных европейских ученых стали членами Санкт-Петербургской Императорской академии наук и внесли существенных вклад в развитие знаний по истории и культуре народов Сибири и сопредельных территорий Центральной Азии. Благодаря их активной деятельности в научный оборот были введены уникальные материалы по сибирской археологии и этнографии, что сделало эти источники доступными для широкой научной общественности. Однако сегодня имена и труды многих из тех, кто посвятили часть своей жизни исследованию Сибирского региона, поискам и изучению археологических, этнографических памятников, тради- ционных культур населяющих его народов, остаются мало известными современным российским специалистам по истории археологической науки. Это связано с тем, что для некоторых из них исторические знания не были связаны с основным профессиональным интересом. В данной работе представлены результаты научных поисков одного из таких ученых, чье имя, а также собранные материалы практически не упоминались в трудах по истории археологических исследований в Сибири. Это должно послужить восполнению имеющегося пробела в сибирской историографии.
В 1895 г. Известия антропологического общества Вены опубликовало статью ученого, имя которого раньше не упоминалась в трудах по истории археологических исследований в Сибири – Ханса Ледера (Hans Leder, 1848–1921). Его сочинение «О древних могильниках в Сибири и Монголии», содержит ряд интересных сведений о памятниках древности и музейных коллекциях в Северной Азии. О самом авторе этого сочинения известно сравнительно немного. Основной сферой профессиональных интересов Х. Ледера была энтомология. В отчете Восточно-Сибирского отделения Импера- торского Русского географического общества за 1891 г. имеются сведения о том, что, будучи членом этого научного общества, он предпринял в отчетном году, по поручению главы этого общества, члена императорской фамилии, Великого князя Николая Михайловича, поездку в Тункинский край, посетил Мондинский караул и прилегающие местности Северной Монголии с целью сбора коллекции насекомых. Летом следующего, 1892 г. он совершил путешествие в Центральную Монголию по Хангайским горам. ВСОИРГО снабдило его рекомендательными письмами к российскому пограничному комиссару П. Г. Сулковскому и генеральному консулу в Урге Я. П. Шишмареву [Ус, 2005. C. 147]. В целом им было совершено несколько подобных научных экспедиций с 1891 по 1905 г. с целью изучения насекомых и сбора коллекций. В лучших традициях своих предшественников – европейских ученых-энциклопедистов XVIII в., трудами этого специалиста нашему вниманию могут быть представлены, собранные им во время экспедиций археологические и этнографические материалы. Археологам, этнографам и специалистам по истории буддизма в Центральной Азии результаты его научной деятельности могут быть интересны в связи с тем, что во время поездок Х. Ледером была собрана большая коллекция монгольских буддийских ритуальных предметов, всего около 5 000 экспонатов, хранящихся в настоящее время в составе этнографических коллекций Австрии, Германии, Венгрии, Чехии, в музеях Вены, Гамбурга, Лейпцига, Штутгарта, Гейдельберга, Праги, Будапешта. Благодаря деятельности этого ученого многие приобретенные им предметы буддийского культа монгольских номадов были сохранены от последующего уничтожения в предвоенные десятилетия XX в., когда в Монголии проводилась активная борьба с религией. В настоящее время сотрудниками Института социальной антропологии г. Вены проводится кропотливая работа по выявлению всех, собранных Х. Ледером, археологических и этнографических материалов и объединению их в единой виртуальной экспозиции, чтобы сделать ее доступной широкому кругу пользователей 1.
Кроме работ по сбору коллекции древностей и предметов буддийского культа, во время своих экспедиционных поездок Х. Ле-дером были зафиксированы и описаны некоторые археологические памятники в разных районах Сибири, что нашло отражение в упомянутой выше его статье, материалы которой явились предметом исследования в данной работе.
В сочинении Х. Ледера не указаны точный маршрут его поездки по Сибири и причины его увлечения изучением древностей. Судя по приведенному в статье описанию, маршрут его экспедиции по территории Западной Сибири пролегал по степным районам. В ходе своей поездки он посетил несколько крупных сибирских городов и пытался ознакомиться там с археологическими коллекциями музеев.
На всем пространстве Западно-Сибирской равнины на глаза Х. Ледеру попадалось большое количество курганных насыпей, сгруппированных в могильники или разбросанных по отдельности. Он их интерпретировал как «чудские могильные холмы», отмечая при этом, что данное название распространено в немецкой научной литературе. Среди местного русского населения они называются «Чудскими буграми» или «Чудскими курганами» [Leder, 1895. S. 9]. О населении, которое оставило эти курганы, Х. Ледер сведений не приводит, отмечая, что это был некий «неизвестный народ», который «населял когда эти местности… и откуда бесследно исчез».
Сведения о легендарном народе «чудь», которому принадлежали все древние курганы в Сибири, могли быть почерпнуты им из трудов ученых, изучавших сибирские древности в XVIII – первой половине XIX вв. Ко времени проведения экспедиций Х. Ледером такую интерпретацию можно было считать в известной степени устаревшей, поскольку за несколько лет до этого В. В. Радловым была разработана и введена в научный оборот периодизация памятников бронзового и железного веков в Южной Сибири и привлечены сведения китайских источников для исторической интерпретации археологических материалов [ Борисенко, Худяков, 2005. С. 176 ] .
pecypc]. Режим доступа : http://www.formuse.at/media/ dokumente/11_1_Dok.pdf ( дата обращения 08.05.2010).
Встреченные им на Западно-Сибирской равнине курганы были различными по величине. Он отметил, что они «встречаются примерно высотой с взрослого мужчину, и тогда они очень хорошо видны на поверхности степи, и которые можно было бы счесть за естественные возвышенности, если бы они не встречались регулярно» [Leder, 1895. S. 9]. Размеры курганов варьировались. Особое внимание исследователя привлекли курганы с насыпью в «рост взрослого человека, которые вполне могли бы быть приняты за естественные возвышения, если бы не частота их расположения». В плане насыпи имели округлую либо овальную форму, вследствие чего и форма самого холма также могла быть округлой либо овальной.
Х. Ледер обратил внимание на часто встречающуюся полную или частичную ограбленность многих курганов. Особенно тех, которые располагались вдоль сибирского тракта. Он связал это с тем, что насыпи курганов были сделаны из земли и разрушить их было не сложно.
Согласно его наблюдениям, наиболее часто «чудские» курганы располагались в плодородных местностях, «вблизи от водотоков или озер, вообще там, где достаточно травы, а также ивы, которая, вероятно, использовалась в строительстве», поскольку, по его мнению, других следов постоянных жилищ или иного проявления культурной деятельности кочевые народы не оставили [Leder, 1895. S. 9]. Он также предпринял попытку проследить границы распространения курганов данного типа. Х. Ледер отметил, что северная граница проходит «почти, несомненно, по сегодняшней северной границе культурной зоны Западной Сибири, которая проходит с запада на восток ходом рек Тары, Тобола, Иртыша, города Тобольска, от Тары до Оми и затем линией от Ко-лывани до Томска, Ачинска и Красноярска. Севернее от этой выстроенной природой демаркационной линии, до которой еще возможно было заниматься земледелием, начинается тундра и простирается до Ледовитого океана. Она начинается между низовий Оби и Енисея и населена кочевниками – вогулами и остяками, которые влачат жалкое существование, в то время как к востоку от Енисея, где начинается горная и холмистая таежная местность, где живут мужественный тунгусы и ведут дикое охотничье хозяйство и занимаются рыбным промыслом. На юг и юго-восток становится невозможным устанавливать границу распространения наших “Чудских” курганов. Они там еще встречаются, но гораздо реже, чем на верхнем Иртыше. Там на западе и севере Алтая и на Енисее неоднократно встречаются новые формы наряду с простыми холмами, такие как могилы с каменными плитами или каменными стелами, на которых часто встречаются подобные рунам буквы, а также каменные ящики. Они должны, вероятно, означать различную культурную принадлежность памятников. Кроме того, и те и другие не ограничиваются сегодняшними политическими границами, и мы с легкостью встретим их в северной части пустыни Гоби на территории соседней китайской Монголии» [Ibid. S. 9–10]. О предшествующих опытах изучения археологических памятников Западно-Сибирской равнины Х. Ледер, видимо, не знал ничего определенного. Однако в то же время в своем сочинении он сообщил, что в Тобольском музее хранятся «некоторые результаты таких попыток... Однако видеть их я не имел никакой возможности, так как они запрещены к просмотру» [Ibid. S. 10]. Собранные им сведения о распространении курганов с земляными насыпями на территории Западной Сибири не содержат данных о конкретных археологических памятниках, их конструктивных особенностях и заупокойной обрядности населения, которым они были сооружены.
Он сообщил также, что в музеях «Томского университета, Красноярска и особенно Минусинска, который был основан умным и усердным гражданином этого города... (Н. М. Мартьяновым. – А . Б . ), хранится очень значительная серия этнографически и археологически важных объектов из различных видов камня, бронзы и золота» [Ibid.]. По его сведениям, в конце XIX в. коллекция Минусинского музея, включая экспозицию, насчитывала более 38 тысяч экспонатов, среди которых 10 893 – предметы археологии, этнографии и антропологии. Вероятно, помимо Тобольска, на пути его экспедиционного маршрута были другие города Западной и Южной Сибири, в том числе Минусинск.
Наибольший интерес для истории археологической науки в Сибири должен представлять дальнейший маршрут его экспеди- ции по Восточным Саянам. Ранее в историко-научной литературе о поездке этого ученого в Тункинскую долину не было известно. Во второй половине XIX в. на этой территории проводили сборы археологических коллекций краеведы, любители старины И. С. Поляков, Н. И. Витковский, М. П. Овчинников, М. Войнич и др. В дальнейшем собранные ими материалы оказались в собрании Иркутского областного краеведческого музея [Худяков, 1983. С. 138]. Сведения, приведенные в работе Х. Ледера, дополняют имеющиеся представления об истории археологического изучения этого района.
Продвигаясь далее на восток к подножью Саянского хребта, Х. Ледер отмечал, что проживающие там таежные племена «стоят на довольно низком уровне образования и развития, постоянно кочуют». Согласно его наблюдениям, их жилища представляют собой простую легкую деревянную конструкцию. Поскольку их предки, вероятно, пользовались такими же жилищами, в настоящее время на этих территориях не встречается следов их проживания. Их основным видом деятельности является охота, в которой они используют достаточно примитивное оружие. Вероятно, ученый имел в виду разборные жилища типа чума, или шалаша. По его сведениям, на данной территории Восточных Саян проживали «соёты» и «карагасы» (современное название «тофалары». – А . Б . ). Он считает их наиболее близкими к развитым тюркским племенам Саяно-Алтая, а также полагает, что кроме якутов они являются «единственными несмешанными представителями этой этнической народности». Связано это, по его мнению, с их не участием в миграциях на Запад. Тем самым они избежали смешения. По представлениям Х. Ледера, территория их проживания тянется на восток вплоть до Ангары. Эти исследования предвосхитили последующие работы Б. Э. Петри и других этнографов среди тофаларов и сойотов Восточных Саян, которые проводились учеными уже в XX в.
Будучи членом Императорского Русского географического общества, Х. Ледер знал о некоторых экспедициях предшествующих лет, предпринятых Восточно-Сибирским отделением этого научного общества с целью изучения древних памятников. И в статье, опубликованной в Известиях антропо- логического общества Вены (Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien), он приводит сведения о некоторых из них, упоминает, что они были не единичными, а неоднократно повторяющимися. Материалы, собранные во время раскопок в течение нескольких лет, составили коллекции ВСОИРГО. В них вошли многочисленные каменные инструменты, предметы «неизвестного назначения» из кости и бивней мамонта. Особенно много, по его словам, здесь было обнаружено предметов из меди. Х. Ледер отмечал особую искусность работы и орнаментальных украшений, наиболее частым элементом которых являлась спираль. Все это, по его мнению, демонстрировало «вкус своих изготовителей». Среди отмеченных им изделий, кроме украшений – предметы вооружения, орудия труда. К наиболее употребительным (видимо, из-за количества находок. – А. Б.) он отнес посуду и предметы узды – «украшения для лошадей». Однако исследователь воздерживается от того, чтобы отнести данные памятники к кочевой культуре только на основании находок конской сбруи. Как он отмечает, «вероятно, речь может идти о большой монголоязычной ветви тунгусской расы, что подтверждается также рядом относительно хорошо сохранившихся черепов» [Leder, 1895. S. 11]. Судя по упоминанию перечисленных выше археологических и антропологических находок, ученый интересовался археологией Байкальского региона и происхождением монгольских и тунгусских народов.
Продвигаясь дальше на восток, Х. Ледер продолжал фиксировать и описывать памятники древности. В забайкальских степях он отметил могильники с простыми курганами с невысокими насыпями практически не заметными на поверхности земли. Кроме того, он сообщает, что в нескольких местах он встретил каменные изваяния, «загадочные монолиты». Одна из таких стел была «почтительно оставлена на своем первоначальном месте» на рыночной площади Тро-ицкосавска (Кяхты. – А. Б.). Описание одной из каменных баб, обнаруженных на месте ее предположительно первоначальной установки, имелось в его дневнике. «Над землей был замечен, немного склоненный в сторону, высотой более мужского роста обтесанный четырехсторонний призматический камень. Передняя сторона и обратная сторона вдвое больше по ширине, чем боковые грани. На фронтальной и задней стороне угадываются контуры человеческой фигуры и в нижней части камня, кажется, был сделана попытка изобразить драпировку одежды. В верхней части изображено человеческое лицо; лоб и нос отчетливо видны, на местах для глаз, которые, правда, отсутствуют сами, могли быть имитированы – нарисованы или как-нибудь иначе обозначены. Надписи на камне нет, однако на всей поверхности виднеются несколько процарапанных, маленьких, спиралевидных и похожих на вопросительный знак фигур, но они едва ли могут быть приняты за буквы или слоги и должны рассматриваться только как рисунки» [Leder, 1895. S. 11]. Он отмечал, что подобные стелы встречаются и в Монголии, на реках Аргунь и Онон. При этом исследователь упоминает, что к 1892 г. насчитывалось более 70 каменных изваяний, среди которых и те, что были зафиксированы в XVIII в. Д. Г. Мессершмидтом и П. С. Палласом. В зависимости от доступности материала, они могли быть сделаны из песчаника, гранита или из сланца. Многие из них, особенно те, которые располагаются на приметных местах, возле дорог, на перевалах, вершинах холмов, имеют на своих гранях надписи. Их содержание, прежде всего, слова Tarni: «Ом-мани-бот-мeхом», позволило Х. Ледеру с полным основанием предположить, что они являются текстами ламаистских молитв и были установлены «в ту эпоху, когда на этой территории ламаизм получил распространение». Ко времени его экспедиции некоторые группы аборигенного населения исповедовали ламаизм, совершали паломничества и приносили жертвы. Из предложенных описаний не вполне ясно, какие именно памятники ученый отнес к числу «каменных изваяний». Вероятно, это могли быть стелы с изображением оленей культуры херексуров и оленные камни, или каменные стелы культуры плиточных могил [Гришин, 1981. С. 156-160; Худяков, 1987. С. 148; Цыбиктаров, 1998. С. 29]. Буддийские молитвенные надписи на каменных стелах могли быть нанесены в период распространения ламаизма среди восточных бурят в XVII в.
Довольно часто Х. Ледер встречал на своем пути места древних поселений. По его предположению, они начали функционировать еще в каменном веке. Им были отмече- ны многочисленные находки наконечников стрел, ножей, топоров и «перфорированных камней», пестиков, шлифовальных камней. В своей статье Х. Ледер упомянул о том, что об этих находках в 1893 г. на собрании Географического общества в Иркутске забайкальским археологом А. К. Кузнецовым был сделан доклад «Поселение людей каменного века», в котором приводились описания вышеуказанных предметов и говорилось, что в дальнейшем все эти находки были сданы на хранение в музей г. Нерчинска.
Он предполагал, что современные ему жители этих территорий – дауры и буряты, являются «прямыми потомками тех древних жителей, которые оставили нам после себя приметы своего существования и образцы своей культуры, и что время создания каменных стел и могильных холмов составляет примерно полторы тысячи лет» [Leder, 1895. S. 12]. Предложенная датировка достаточно условна. Каких-либо аргументов в ее пользу ученый не приводит. Впрочем, в своих заключениях, Х. Ледер утверждал, что он опирался на китайский источник, правда, не уточняет, какой именно. Согласно этому источнику, упоминаемые народы «проживали между Байкалом и Kerulun (Ке-руленом. – А . Б . ) и были известны под именем “Bebe-har”, “Tata” и “северные варвары”». Возможно, что речь должна идти о средневековых «дада», или татарах, сведения о которых имеются в китайских источниках [ Мэн-да бэй-лу, 1975. С. 45 ] . С другой стороны, он утверждал, что сам имел возможность наблюдать, как «еще сейчас (т. е. в конце XIX в. – А . Б . ) в отдаленных, уединенных местностях, например, в восточных Саянах, на Иркуте, Китое и в других местах, обыкновенным делом считаются каменные орудия, такие как нефритовые песты в деревянных ступках, ручные мельницы, наконечники стрел и тому подобное, и недавнее бронзовое и совсем недавно наступившее железное время, пришедшее сюда с русскими, принесло железные предметы в употребление» [Leder, 1895. S. 12]. Ссылаясь на недостаточность своих знаний в этой области, он в то же время не утверждал это как окончательную точку зрения. С его мнением о недавно наступившем железном веке трудно согласиться, поскольку использование таких вещей, как каменные песты и зернотерки, еще не дает оснований для отнесения культуры к «каменному веку».
Археологические материалы, собранные в ходе экспедиционных маршрутов по Западной и Восточной Сибири Х. Ледером, могут представлять определенный интерес для истории археологической науки в нашей стране. Высказанные им суждения по поводу некоторых видов археологических памятников отражают уровень науки своего времени.