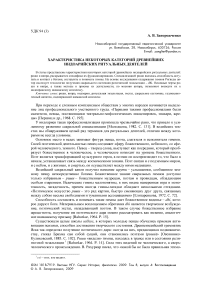Характеристика некоторых категорий древнейших индоарийских ритуальных деятелей
Автор: Запорожченко Андрей Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены характеристики некоторых категорий древнейших индоарийских ритуальных деятелей: риши и випра, раскрывается специфика их функционирования. Специализацией риши являлась способность вступать в контакт с богами, составлять и понимать гимны. На основе исследования содержания гимнов Ригведы автор исследует технологии получения сакрального состояния религиозной экзальтации - dhi. Основные черты риши и випра, а также методы и приемы их деятельности, по мнению автора, позволяют возвести их к индоиранскому шаманскому комплексу.
Риши, випра, индоарии, ритуальная экзальтация, экстаз, сакральное состояние, галлюциногенный напиток, индоиранский шаманский комплекс
Короткий адрес: https://sciup.org/14737116
IDR: 14737116 | УДК: 94
Текст научной статьи Характеристика некоторых категорий древнейших индоарийских ритуальных деятелей
При переходе к сложным комплексным обществам у многих народов начинается выделение лиц профессионального умственного труда. «Первыми такими профессионалами были сказители, певцы, постановщики театрально-мифологических инсценировок, знахари, жрецы» [Першиц и др., 1968. С. 195].
У индоариев такая профессионализация произошла чрезвычайно рано, что привело к усиленному развитию сакральной специализации [Молодцова, 1982. С. 131]. В ведийских текстах мы обнаруживаем целый ряд терминов для ритуальных деятелей, отличия между которыми не всегда уловимы.
Основное место в ведах занимает фигура певца, поэта, слагателя и исполнителя гимнов. Своей поэтической деятельностью певец соединяет сферу божественного, небесного, со сферой человеческого, земного. Певец – творец слова, выступает как посредник, который преобразует божественное в человеческое, а человеческое возводит на уровень божественного. Поэт является трансформацией культурного героя, в поэзии он воспроизводит то, что было в начале, устанавливает связь между космическими зонами. Поэт связан и с подземным миром, и с небом, и с жизнью, и смертью, он осуществляет между ними медиацию.
Ведийский сакральный канон получил название шрути – услышанное, сообщенное земному певцу непосредственно богами. Божественное знание сакральных гимнов доступно только избранным – риши – божественным мудрецам, поэтам и провидцам, обладающим особым озарением. Ведические гимны малопонятны, в них видна намеренная игра в монотонность, загадочность, причем иногда гимны-загадки обладают несколькими отгадками. «Поэтическое искусство риши – это ряд картин, быстро сменяющих друг друга, связанных между собою весьма свободными и туманными ассоциациями» [Елизаренкова, 1972. С. 72].
Способность составлять и понимать такие гимны дает божественное виденье – dhi , которое даруют боги. Материальным воплощением обретения dhi является творческое возбуждение, поэтический экстаз, овладевающий поэтом. В таком случае божественное избрание жреца-поэта, получение им поэтического дара можно рассматривать как явление, аналогичное шаманскому призыву [Rahurkar, 1964. P. 15].
Существовали целые школы sakhya, в которых молодые певцы обучались приемам активизации психики, способам достижения творческого состояния. Древнеиндийский грамматик Яска так определял получение поэтического дара: «когда на них, предающихся подвижничеству, стекал Брахма сам собой сущий, они становились поэтами (риши)» [Овсяннико-Куликовский, 1883. С. 102]. Риши «видели» гимны, находясь в трансе или в состоянии религиозной экзальтации 1 [Rahurkar, 1964. P. 14]. Сила этих видений не человеческого, а сверхчеловеческого происхождения. В. Рахуркар писал, что «какой бы не была правильная этимо- логия, концепция риши всегда включала идеи, относящиеся к поэтическому и пророческому видению, экстра- и сверхчувственному знанию, праведности и экстазу [Rahurkar, 1959. P. 55]. Этимологическое поле термина включает также такие понятия, как «буйствовать», «неистовствовать», «вдохновляться». Риши – это, прежде всего, человек, кто произносит священные слова, кто делает видимым мистическую форму vac, которая более сакральна, чем обыденная речь, и несет глубокий, вселенский смысл. Эта форма речи неуловима обычными органами чувств, непостижима обычными людьми. Она может открыть свою истинную природу только тем, кто владеет духовным видением, способен проникать в изначальную сущность вещей и доставлять священные тексты людям – риши [Gonda, 1963. С. 42].
Одну из отличительных характеристик этого типа ритуальных функционеров составляет способность вступать в визионарный контакт с божеством. Риши видит богов (РВ 1. 23. 24), может обращаться к ним (РВ 8. 23. 24), превозносить их (РВ 8. 26.10), славить или молить их (РВ 9. 114. 2), призывать их помощь и любовь (РВ 1. 48. 14). Знаменитые риши описываются как «рожденные и вдохновленные богами» (РВ 3. 53. 9). Источниками данного статуса являются только те боги, кто сам им владеет: сыновья Ангираса спустились от Агни и стали «глубоко возбужденными риши » (РВ 10. 62. 5), ибо Агни – первый и лучший из риши (РВ 1. 31. 1; 3. 21. 3). Индра – вдохновенный риши Марутов (РВ 5. 29. 1), гарантирует вместе с Варуной мысль риши , которая трансформируется потом в священную речь (РВ 8. 59. 6). В разделе 9. 96. 6 Сома называется « риши среди вдохновенных». Связь между статусом риши и сомой очевидна из РВ 3. 43. 5: «ты без сомнения сделаешь меня риши , так как я выпил выжатого (сому)». Прилагательное «делающий человека риши » употребляется по отношению к богу Соме в РВ 9. 96. 18, где он описывается как тот, «чей ум как у риши …, который делает людей риши ». Риши не только становятся провидцами благодаря соме и функционируют всегда вместе с этим напитком: « риши возбуждены сомой» (РВ 10. 108. 8). Разница между божественными и земными риши не в статусе, а в степени их искусства.
По мнению Т. Я. Елизаренковой, термин риши этимологически связан с глагольным корнем ars – «стремительно течь», «изливать». Этот глагол по преимуществу используется в мандале IX для описания процесса приготовления и использования напитка сомы. Семантика глагола тесным образом связана с ритуалом, и, прежде всего, ритуалом сомы.
Жрец вкушал сому, который, пройдя через цедилку из овечьей шерсти, тек по деревянному сосуду. Галлюциногенный напиток обострял интуицию жреца, и перед ним вдруг открывалась истина. «Увидев» ее и придав ей форму гимна, жрец- риши , пропустив через фильтр сердца поэтическую речь, давал ей свободно излиться, чтобы достигнуть неба – сферы богов. Именно в силу этой ритуальной ориентированности глагола ars от него мог быть произведен термин с такой семантикой, как rsi , что значит «участник ритуала, пьющий жертвенное возлияние и изливающий хвалу богам в виде гимна» [Елизаренкова, 1993. С. 53].
Нередко риши называются випра – «человек, который испытывает дрожь, энергию, экстаз религиозного и эстетического одухотворения» (РВ 3. 53), однако в ряде гимнов утверждается, что это тождество не полное (РВ 8. 3. 14). Термин випра имеет, по мнению Я. Гонды, и самостоятельное значение, используясь не только по отношению к ритуальным деятелям риши и кави , но и по отношению к манифестациям фундаментальной и универсальной силы – Брахмана. Боги также удостаиваются этого термина: Агни в РВ 8. 39. 9; 8. 43. 1, Индра в РВ 10. 112. 9.
Однако в последнем случае это связано не с поэтической функцией бога, а с его духом, пылкостью, энтузиазмом, с которым он выполняет свою роль героя [Gonda, 1963. P. 36]. Ви-прой обозначалось особое состояние религиозной или ритуальной экзальтации, которая помогает достичь успеха в подвигах или в поэзии. Особая роль в достижении состояния випра принадлежит соме: «когда соки сомы потекли вниз в Индру, тогда духовность и энтузиазм Индры стали сильно увеличиваться» (РВ 10. 47. 7).
Еще одним источником випра является бог Агни: от Агни рождается одухотворенный провидец (РВ 6. 7. 3), Агни делает своих жертвователей – випра знаменитыми (РВ 6. 10. 3). В обоих случаях господствует ведийский принцип: бог обязательно владеет теми качествами, которыми он наделяет своих поклонников.
Некоторые исследователи (Л. Рену, Г. Ольденберг) полагали, что випра – это поэтическая дрожь. Я. Гонда соглашается с ними, считая, что термин, обозначающий все виды религиоз- ного возбуждения и экстаза, вполне мог использоваться для обозначения вибрирующей и экзальтированной речи поэтов. Это хорошо соотносится с верованиями, что мантры осуществляют свою власть через их «звуковую вибрацию». В тантризме образ божества возникает в сознании человека в результате ритмической вибрации звуков мантр. Физиологическая важность метрической речи подчеркивается уже в ранних Упанишадах: специфический характер метра вызывает специфические духовные колебания в человеческом существе. Духовные колебания находятся в унисоне с колебаниями священной ритмической речи, вызывая состояние випра 2. Ведийский термин випра мог изначально определять движущегося, вдохновенного, экстатического провидца, произносящего эмоциональные, вибрирующие, метрически организованные священные тексты [Gonda, 1963. P. 39]. Индийский випра соответствовал дозороастрийскому жрецу-певцу vifra. Хотя этот термин встречается только один раз (Яшты 13. 104), Г. Виденгрен полагал, что речь идет о вдохновенных экстатиках, позднее осужденных в зороастризме [Widengren, 1965. S. 35].
Техника овладения экстазом, способность вызывать его по своей воле рассматривались в архаичных обществах как знак божественного избранничества. Однако поэт не должен пассивно ждать божественного дара. Он сам должен уметь вызывать его. По мнению Е. В. Молодцовой, деятельность собственной психики являлась профессиональной проблемой ведийских певцов. Самым сложным было достижение экстатического состояния в определенный момент [Молодцова, 1982. С. 133–134].
У древних индийцев существовала специально разработанная технология получения dhi. Главным способом было употребление галлюциногенного напитка Сомы: «Ведь это ты, Сома, тот, кто укрепляет, когда выжат для буйного опьянения, певца, чтобы помочь ему, о бык?» (РВ IХ. 51. 4). Именно к богу Соме обращается за поэтическим вдохновением певец: «Как огонь, добытый трением, зажги меня! Дай нам озарения! Сделай нас лучше!» (РВ VIII. 48. 6). При этом питье напитка это не бесконтрольный процесс, оно должно создать вполне определенное состояние, и поэтому все фазы действия сомы тщательно фиксируются: «Вот исчезли недомогание, болезни, силы тьмы; они испугались» (РВ VIII. 48. 11). Но цель певца не изгнание болезней, а достижение состояния божественного экстаза: «Он заставил зазвучать мысль, познающую истину… Отец мыслей, обладающий недостижимым даром предвидения» (РВ IХ.76.4). Благодаря соме певец совершает внеземные путешествия, общается с богами, достигает рая и ада, обретает бессмертие. Питье сомы сопровождается декламацией уже созданных гимнов богам, которые сами по себе также возбуждают поэта: поэтический экстаз сливается с экстазом опьянения. Если же принять во внимание, что «исполнение ведийских гимнов в Индии скорее можно было назвать пением, что каждому размеру соответствует определенная мелодия» [Елизаренкова, 1972. С. 34–35], а пение гимнов сопровождалось музыкой, то можно заметить, что способы вызывания поэтического вдохновения ведийских риши являются развитием архаической техники экстаза шаманов. Неправильное употребление этой техники вело к негативным последствиям – нервному истощению: «угнетает бессмысленность, нагота, усталость, мысль трепещет, как птица» (РВ Х. 33. 1–2).
Особое внимание человека к собственной психике, являющейся регулятором взаимоотношений с божественным миром, «заставляет человека воспринимать ее как всемогущую сущность, а себя самого как ее носителя – в качестве могущего все» [Молодцова, 1982. С. 134]. Овладевшие техникой экстаза, победившие самое себя, мудрецы- риши становятся равными богам, овладевают великим колдовством, и боги трепещут перед их силой.
Большим почтением в древнеиндийской мифологии пользуются великие риши прошлого, иногда называемые Mahidevas. Они равны по силе богам, хотя и смертные по природе. Наиболее популярны риши Агастья, Ангирас, Атри, Бхараваджа, Бхригу, Васиштха, Вальмики, Вьяса, Кашьяпа, Нарада [Гусева, 1977. С. 113–114]. Традиция приписывает этим риши подвиги, сходные с теми, которые совершают шаманы в фольклоре народов Сибири. Владея силой божественного экстаза, риши совершают полеты на северную гору Меру, выступают соратниками и помощниками богов, выполняя то, что не под силу даже великим небожителям.
Один из самых знаменитых риши Агастья заставил склониться перед собой горы Виндхья и выпил океан [Темкин, Эрман, 1982. С. 148, 152], дал людям дождь, когда это оказалось не под силу Индре. Великий риши сохранил Юг и Север, установил равновесие в Космосе, способствовал восстановлению власти Индры [Hiltebeitel, 1974. P. 337, 347]. Нередко ему приходится сталкиваться с бессмертными и далеко не всегда боги празднуют победу: Агастья отказывается стать сыном Митры, сжигает асуров. Он обладает способностью видеть и общаться с собственными предками, в результате своих аскетических занятий поднимается на небеса и творит людей [Hopkins, 1972. P. 185]. Риши является знатоком магии тапаса, может становиться невидимым [Hiltebeitel, 1974. P. 346].
Другой великий риши Нарада является божественным медиатором – он вестник богов. Странствуя между небом и землей, Нарада приносит людям послания свыше, сообщает им волю богов и предсказывает будущее. Он вождь небесных музыкантов – «гандхарвов», создатель сладкозвучной лютни «вины», с которой он странствует на облаке, лаская чудесными мелодиями слух богов и смертных [Темкин, Эрман, 1982. С. 74].
Великим риши были известны и секреты изгнания болезней: знатоками медицинских растений были Канвы, специалисты по изгнанию духов и приготовлению сомы, обладатели великолепного поэтического вдохновения, которое так нравится богам [Kuiper, 1964. P. 155–156]. Изобретателем искусства Аюрведы считается риши Бхараваджа [Гусева, 1977. С. 116].
Но главное, чем обладают риши – это мистические знания. Главным мистиком является Васиштха, поклонник самого мистического из богов – Варуны. Через сердце получает эти знания мудрец, который с помощью их может спуститься к сокровенному источнику тайн и мудрости – жилищу (или дереву?) Варуны (РВ VII. 33. 7; I. 24. 7). Именно Варуна сделал своего сына риши , поместив его в сосуд (инициационное испытание?) (РВ VII. 88. 4), именно в дом Варуны совершает свое внеземное плавание риши в надежде восстановить утерянный мистический союз с богом (РВ VII. 15). Особенно показательно, что речь идет о путешествии, совершенном в сновидениях. Путешествие в нижний мир и тот мистический опыт, который неофит получает там, становятся основой для получения статуса риши . Вступив в дом Варуны, Васиштха увидел величайшее чудо – «солнце в камне», что равносильно знанию (а значит, и участию) в процессе творения мира. Это знание приходит в ходе медитационных опытов, направленных на достижении экстаза, в котором провидец вступает в нижний мир. Знание технологии этого процесса является великой тайной, доступной только посвященным – medhira , rtajna , прошедшим, как и Васиштха, инициацию в нижнем мире Варуны [Kuiper, 1964. P. 110, 124, 127]. Но не только с Варуной общается риши . Он передает свои знания Индре, достигает любви Индры, причем единственный из всех, он может не только видеть лицо бога, но и показывать его другим риши [Rahurkar, 1959. P. 117, 143]. Васиштха считается «царем жрецов и богов» и обладает огромной магической силой, которая позволяет ему оживлять Индру, убивать асуров, вызывать дождь в засуху, лечить от одержимости ракшасами [Hopkins, 1972. P. 182].
Не менее мистическими выглядят гимны IV мандалы, принадлежащие риши Вамадева, который уже в чреве матери был наделен сверхъестественным знанием (РВ IV.27.10). Вама-дева – вдохновенный провидец, одаренный богами вдохновением и высшим знанием, которых он достиг через аскезу (РВ IV.18.13; 5.3). По мнению Саяны, в одном из гимнов этой мандалы описывается, как в результате йогической практики Вамадева превратился в птицу syena [Rahurkar, 1959. P. 53].
Бхригу (букв. «сияющий») рожден из огня и обладает особыми силами: он заставил Хи-мавата потерять семя, Вишну – родиться человеком и потерять жену, Ними – возвратиться к жизни [Hopkins, 1972. P. 179]. Бхригу совершает путешествие в подземный мир своего отца Варуны в поисках огня и в итоге добывает его для человечества. Но не только нижний мир посещал Бхригу, в Атхарваведе (IV.14.3) он посетил и небеса [Rahurkar, 1959. P. 217]. Ат-ри для достижения мудрости совершает путешествие в горящую бездну, откуда его спасают и восстанавливают Агни и Ашвины, делая его снова молодым. Полученные качества позволили ему спасти похищенное солнце и возвратить его на небо [Keith, 1925. P. 227–228]. Атри спасает мир: когда стрелы rahu поразили луну и солнце, он, став солнцем и луной, освещал мир и днем и ночью. Обладая особой огненной породой, мудрец «сжигает» враждебных ми- ру демонов и освещает мир свой славой [Hopkins, 1972. P. 185]. Кашьяпа, тесно связанный с культом Сомы, с помощью своей магической силы и помощи бога стремится к бессмертию в мире богов (РВ IX. 113). Риши Grisamada посредством аскезы достиг такой силы и власти, что в облике Индры путешествовал по всем трем мирам, достигнув жилища великого бога [Rahurkar, 1964. P. 11] 3. Из-за ошибки при произнесении магических формул он некоторое время находился в облике дикого животного, но Mahesvara освободил его от проклятия и сделал бессмертным [Hopkins, 1972. P. 187].
Мифологические характеристики риши во многом сходны с шаманскими, их деятельность по своим медиативным характеристикам также аналогична шаманской. Связь между мирами риши осуществляют в состоянии ритуального экстаза, вызванного приемами шаманской техники. В экстазе риши совершают полеты в потусторонние миры. Обладая силой волшебства, перед которым бессильны боги, они проникают взором во все сферы Вселенной, знают прошлое, настоящее и будущее. Всего этого риши достигает путем божественного избрания или путем долгих тренировок и ученичества, расстроивших профаническую чувствительность и открывшим его сверхъестественному. Великие риши действуют как поэты и певцы, музыканты и врачи, колдуны и волшебники. Все эти функции в архаических коллективах выполнял шаман. Как полагал В. М. Жирмунский, «вера в волшебную силу песни связана с обычным на ранних этапах совмещением профессии певца и прорицателя-шамана» [Жирмунский, 1979. С. 402–403].
Ведийские риши являются наследниками архаического индоиранского шамана. Хотя в их характеристиках на первый план выходят функции поэта-жреца, однако пережиточно они сохраняют полифункционализм своего предшественника, выполняя и шаманские функции. Сами риши становятся источником дальнейшего развития процесса специализации, приведшего к выделению целого класса «профессионалов». В результате формируется сословная группа профессиональных жрецов-брахманов. Само название «брахман» восходит, по В. Н. Топорову, к термину blazman , обозначавшему человека в экстазе, говорящего ритуальные стихи [Топоров, 1974. С. 35].
Жреческое сословие состояло из разных категорий, отличавшихся друг от друга либо специализацией, либо ролью в жизни отдельных племен, родов или семей. Жрецы унаследовали от риши шаманские функции, что отразилось в названиях жрецов ( брахман , адхаварью ), в обрядах, которые они выполняли ( durohana, brahmodya ), и в той технике, которой они пользовались для получения экстаза. Естественно, что эти техники и обряды получали иное, метафизическое значение, однако шаманские черты в них ясно различимы.
Таким образом, в древнеиндийском обществе жрец на определенном этапе вытеснил шамана, а шаманские функции перераспределились между различными категориями жречества. Но хотя жречество и обладало компонентами шаманского комплекса, между жречеством и шаманизмом существовали отношения не полного тождества.