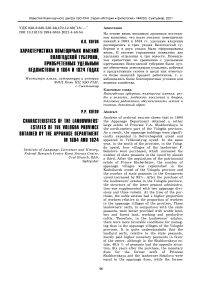Характеристика помещичьих имений Вологодской губернии, приобретенных удельным ведомством в 1804 и 1824 годах
Автор: Котов П.П.
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Статья в выпуске: 4 (50), 2021 года.
Бесплатный доступ
На основе вновь вводимых архивных источников выявлено, что после покупок помещичьих имений в 1804 и 1824 гг. удельные владения расширились в трех уездах Вологодской губернии и в двух уездах были сформированы вновь. В системе управления появились два удельных отделения и три волости. Помещичьи крепостные по сравнению с удельными крестьянами Вологодской губернии были лучше обеспечены земельными угодьями, рабочим и продуктивным скотом и среди них отмечался более высокий процент работников, т. е. наблюдались более благоприятные условия для ведения хозяйства.
Вологодская губерния, помещичьи имения, уезды и волости, людность поселений и дворов, тягловые работники, обеспеченность землей и скотом, денежный оброк
Короткий адрес: https://sciup.org/149139315
IDR: 149139315 | УДК: 930.2:330.526.34(470.12-89)"18/..." | DOI: 10.19110/1994-5655-2021-4-46-54
Текст научной статьи Характеристика помещичьих имений Вологодской губернии, приобретенных удельным ведомством в 1804 и 1824 годах
В настоящий период остается актуальной проблема решения продовольственной безопасности России. В этой связи возрастает интерес к исследованию аграрных проблем и истории крестьянства. Вплоть до отмены крепостного права крестьянство России не представляло монолитной массы и подразделялось на разные категории [1; 2, с. 197– 203; 3]. История этих групп крестьянства изучена неравномерно [4–6], в том числе как в целом по северному региону [7–9], так и по отдельным аспектам [10–12]. Кроме того, ряд вопросов рассмотрены недостаточно или вовсе остаются не затронутыми. Так, в трудах российских историков не все проблемы истории удельной деревни нашли должное отражение [13–15]. В частности, упущен вопрос о расширении удельных владений, который происходил во многих губерниях. В основном упоминается так называемый Симбирский обмен, когда удел обменял своих крестьян ряда губерний на казенных поселян в Симбирской губернии [14, с. 124–128; 16, с. 215–222.; 17].
В России собственность царя и его семьи аккумулировалась в виде дворцовых земель, крестьян и имущества [2, 18 – 20]. По закону от 5 апреля 1797 г. дворцовая собственность вместе с крестьянами были переподчинены специально созданному Департаменту уделов, которое осуществляло управление, но все доходы должны были распределяться между членами царской семьи (они выступали коллективным собственником владений) [21]. С другой стороны, была сформирована новая категория сельских жителей – удельные крестьяне.
По закону удельное ведомство имело право покупать собственность и крестьян. Выявленные архивные источники позволяют не только отобразить факт приобретения уделом новой собственности на примере Вологодской губернии, но и проанализировать состояние крестьянских хозяйств приобретаемых дворянских поместий.
В марте 1804 г. удел оформил одну из первых своих сделок – за 145 тыс. руб. он купил достаточно крупную вотчину княгини В.А. Шаховской, в которой числилось 78 селений, 996 наличных душ мужского пола и 1 133 женских душ (далее соответственно – д. м. п. и д. ж. п.) и более 26 тыс. дес. земли (около 6,5 тыс. дес. пашни и сенокоса, свыше 17,1 тыс. дес. леса и 2,5 тыс. дес. «неудобий») [22, л. 38–147]. После уточнений и приписки находившихся в отлучке крепостных в имении княгини Шаховской было определено считать по V ревизии 917 окладных душ мужского пола (на них начислялись подати и повинности) и 1 100 неокладных женских душ (см. табл. 1). Владения В.А. Шаховской, как показывают материалы, карты, располагались по берегам низовий рек Сухоны и Вычегды и верхнего течения Северной Двины в Сольвычегодском и Великоустюгском уездах Вологодской губернии. В Сольвычегодском уезде в число покупных крепостных, по сути насильно, были включены две деревни с половниками, несмотря на их протесты (табл. 1). К этому времени удельные крестьяне проживали лишь в северной части Сольвычегодского уезда (см. карту). Здесь 177 деревень и 3 324 ревизских д. м. п. удельных поселян были отнесены к Афанасьевскому приказу, 63 деревни и 1 529 душ – к Борецкому приказу (к нему приписаны еще и 1 483 удельных крестьян Шенкурского уезда Архангельской губернии). На Европейском Севере России все удельные приказы (низовые органы крестьянского самоуправления) объединяла Архангельская удельная экспедиция, одна из девяти, созданных в стране в 1798 г. [23]. В Сольвычегодском уезде покупка имения княгини Шаховской обеспечила прирост удельных селений на 19,2 %, ревизских д. м. п. – на 9,1 % и увеличило общую долю удельных крестьян среди населения уезда с 17,1 до 18,7 %. При этом в Великоустюгском уезде впервые появились 32 удельных поселения и 476 д. м. п. удельных крестьян, которые составляли, правда, только 1,5 % его жителей (см. табл. 1) [8, с. 313; 24; 25].
В рамках вотчины Шаховской в Сольвычегод-ском и Великоустюгском уездах было образовано Кузнецовское удельное отделение. Оно, как и другие удельные отделения, фактически приравнивалось к удельным приказам. Приказы и отделения на Севере разделялись на группы селений, которые назывались в Вологодской губернии боярщинами, десятинами, сотнями, деревнями, приходами, но чаще – волостями. Эти группы селений представляли из себя сложные общины. В редких случаях и только на части южных уездов Вологодской губернии были выявлены простые общины в границах отдельных удельных селений. Именно общины занимались переделами земельных угодий, прежде всего пашни, и определяли размеры податей и повинностей на каждую семью. Созданное Кузнецовское удельное отделение разделялось на десять волостей или сложных общин, которые различались по числу поселений и жителей. Так, в Грогоровской волости бытовало три деревни, тогда как в Горской волости – 15 деревень, в Устьевской волости проживало 49 ревизских д. м. п., в Цареконстантиновской – 132 души (см. табл. 1).
В конце декабря 1804 г. в Вологодской губернии удельное ведомство оформило еще одну сделку – за 19 650 руб. оно купило имение «вдовы помещика Соколова Феодосьи», в четырех деревнях которого проживали 102 «наличных» мужчин и 111 женщин
Таблица 1
Людность дворов и селений и доля работников среди крестьян дворянских имений, купленных уделом в 1804 и 1824 гг.
The population of farmyards and villages and the share of workers among the peasants of the noble estates purchased by the Appanage in 1804 and 1824
Table 1
|
Имение, деревня, волость, уезд |
Хозяев, семей |
Дворов |
Душ по ревизии |
Душ обоего пола |
Работники тягловые |
Работники полутягловые |
||||
|
муж. |
жен. |
на одно селение |
на один двор |
душ |
% |
душ |
% |
|||
|
Имение Шаховской (1804 г., V ревизия)1 |
||||||||||
|
Деревня Окуловка, половники |
5 |
6 |
15 |
20 |
35,0 |
5,8 |
12 |
80,0 |
2 |
13,3 |
|
Деревня Нероновская, половники |
2 |
1 |
5 |
3 |
8,0 |
8,0 |
3 |
60,0 |
0 |
0,0 |
|
Горская волость |
35 |
32 |
112 |
141 |
16,9 |
7,9 |
53 |
47,3 |
15 |
13,4 |
|
Григоровская волость |
15 |
14 |
60 |
63 |
41,0 |
8,8 |
37 |
61,7 |
10 |
16,7 |
|
Нюбская волость |
24 |
24 |
66 |
86 |
19,0 |
6,3 |
45 |
68,2 |
6 |
9,1 |
|
Пицкая волость |
24 |
23 |
68 |
87 |
19,4 |
6,7 |
39 |
57,4 |
8 |
11,8 |
|
Устьевская волость |
16 |
14 |
49 |
56 |
21,0 |
7,5 |
25 |
51,0 |
7 |
14,3 |
|
Шешуровская волость |
16 |
16 |
66 |
94 |
32,0 |
10,0 |
37 |
56,1 |
6 |
9,1 |
|
Итого в Сольвычегод-ском уезде |
130 |
123 |
441 |
550 |
21,5 |
7,6 |
251 |
56,9 |
54 |
12,2 |
|
Вондокурская волость |
34 |
35 |
127 |
157 |
31,6 |
8,1 |
69 |
54,3 |
14 |
11,0 |
|
Кузнецовская волость |
33 |
30 |
111 |
130 |
34,4 |
8,0 |
64 |
57,6 |
14 |
12,6 |
|
Удимская волость |
35 |
34 |
106 |
120 |
20,5 |
6,6 |
62 |
58,5 |
14 |
13,2 |
|
Цареконстантиновская волость |
42 |
37 |
132 |
143 |
55,0 |
7,4 |
83 |
62,9 |
9 |
6,8 |
|
Итого в Великоустюгском уезде |
144 |
136 |
476 |
550 |
32,1 |
7,5 |
278 |
58,4 |
51 |
10,7 |
|
Всего по имению, включая половников |
281 |
266 |
917 |
1100 |
25,9 |
7,6 |
529 |
57,7 |
105 |
11,5 |
|
Имение Щербатова (1824 г., VII ревизия)2 |
||||||||||
|
Наремская волость, Кадниковский уезд |
46 |
43 |
127 |
119 |
49,2 |
5,7 |
61 |
48,0 |
– |
– |
|
Обнорская волость |
20 |
19 |
44 |
44 |
29,3 |
4,6 |
23 |
52,3 |
– |
– |
|
Комлевская волость |
124 |
119 |
363 |
379 |
49,5 |
6,2 |
182 |
50,1 |
– |
– |
|
Итого в Грязовецком уезде |
144 |
138 |
407 |
423 |
46,1 |
6,0 |
205 |
50,4 |
– |
– |
|
Всего по имению |
190 |
181 |
534 |
542 |
46,8 |
5,9 |
266 |
49,8 |
– |
– |
Примечание: 1 – по имению Шаховской – д. м. п. по V ревизии, 2 – по имению Щербатова – д. м. п. по VII ревизии; тире (–) – данные не выявлены.
Источники: РГИА. Ф. 515. Оп. 7. Д. 10. Л. 146 об.–147; Оп. 10. Д. 587. Л. 27 об.–32 об.; Д. 773. Л. 41–106.
Sources: RGIA. F. 515. Op. 7. D. 10. P. 146 об.–147; Op. 10. D. 587. P. 27 об.–32 об.; D. 773. P. 41–106.
[26, л. 61–73]. После уточнений по V ревизии ведомство зачло 96 окладных д. м. п. и 92 неокладных женских души (см. табл. 2). После сделки число удельных селений в Вологодском уезде увеличилось на 36,4 %, число ревизских д. м. п. – на 31,9 %. Однако удельные поселяне составляли не более 1,2 % населения уезда [8, с. 313; 25, л. 27–28 об.].
Обратим внимание, что по указу от 15 мая 1808 г. в регионах взамен девяти экспедиций учредили 38 удельных контор (имений) и приравненных к ним отделений, которые подразделялись по-прежнему на приказы и низовые отделения, действующие в рамках крестьянского самоуправления [27]. На Севере были созданы самостоятельные Архангельская и Вологодская удельные конторы (имения). В их границах прежние границы приказов были существенно переформатированы. Например, на севере Сольвычегодского уезда были созданы Верхотоемский (2020) и Афанасьевский (2833) при- казы∗ и оставлено неизменным Кузнецовское отделение [25, л. 25 об.–28 об.].
В южных уездах Вологодской губернии после 1797 г. удельные крестьяне проживали: в Кадников-ском уезде – в четырех деревнях Верхораменской волости (150) и в четырех селениях Сямженской волости (198); в Вологодском уезде – в пяти деревнях Кубенской волости (62), в семи «разных селах и деревнях» (243) и в четырех «удельных деревнях бывшего имения помещика Соколова» (96); в Гря-зовецком уезде – в с. Никольском (14) и дер. Пого-даево (6). В ходе реформирования к началу 1809 г. все удельные поселения трех южных уездов Вологодской губернии были объединены в Турундаевское отделение. Одновременно в рамках отделения создали новую Турундаевскую волость, в которую включили «11 не волостных удельных сел и деревень» Вологодского уезда [25, л. 27–28 об.].
∗ В скобках указано число д. м. п. по V ревизии.
Заметные изменения в Турундаевском отделении наступили после покупки уделом за 200 тыс. руб. вотчины князя Щербатова в апреле 1824 г. Удельные владения пополнили 23 поселения, 534 д. м. п. и 542 д. ж. п. по VII ревизии, 3 728 дес. угодий «единственного владения» и 4 760 дес. «общего пользования» [28]. Материалы табл. 1 и карты показывают, что пять селений бывшего поместья Щербатова в Кадниковском уезде образовали На-ремскую волость; 15 селений в Грязовецком уезде вместе с уже существовавшими удельными с. Никольским и дер. Погодаево создали Комельскую волость и оставшиеся три деревни в том же Грязо-вецком уезде объединились в Обнорскую волость. В результате в Кадниковском уезде численность удельных крестьян возросла на четверть, в Грязо-вецком – почти на 95 %.
К моменту покупки уделом дворянских поместий в Вологодской губернии после очередной ревизии проходило несколько лет и поэтому число наличных душ превышало таковые по текущей ревизии. Исключение наблюдалось в им. князя Щербатова, где в 1824 г. насчитывалось на 10 мужчин меньше учтенных в 1816 г. по VII ревизии. Да и наличных женщин в нем насчитывалось только на 11 душ больше нежели по ревизии, тогда как по другим имениям эта разница была существенной. В вотчине княгини Шаховской наличных мужских душ было на 8,6 % больше ревизских, женских душ – на 3,0 %, в имении Ф. Соколовой соответственно на 6,3 %
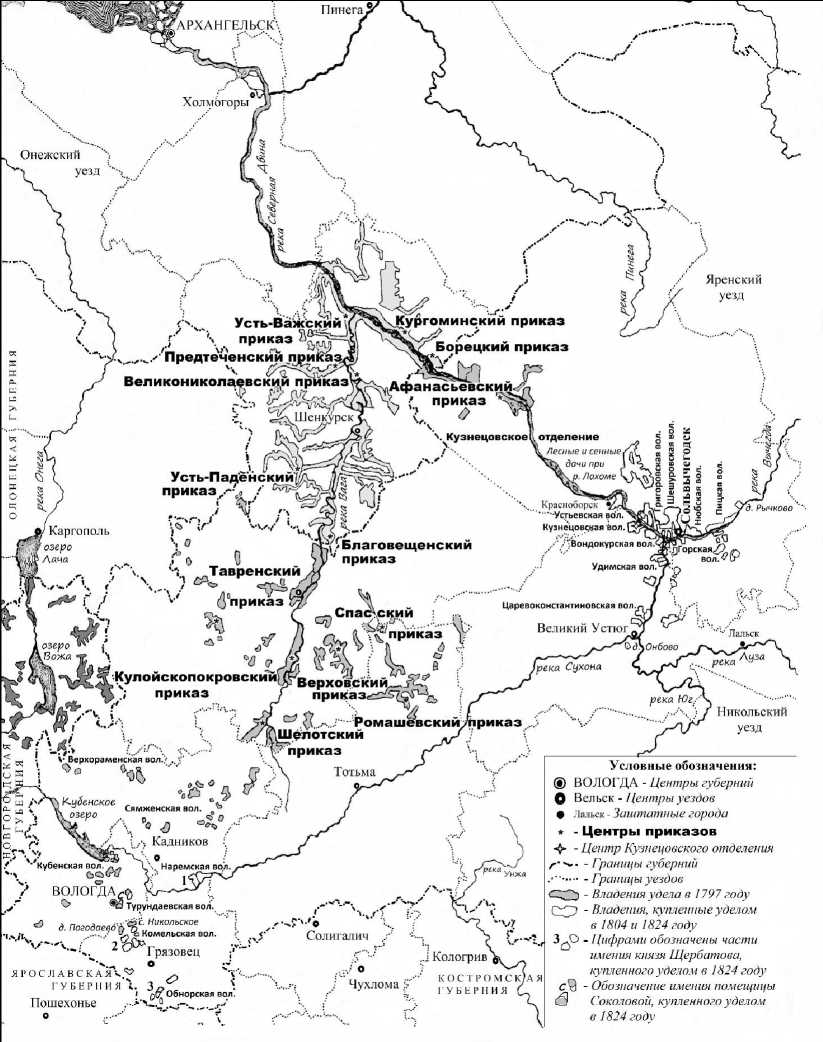
Карта удельных владений на Европейском Севере в начале XIX в. (автор: П.П. Котов).
Map of appanage possessions in the European North at the beginning of the XIX century (author: P.P. Kotov).
Таблица 2
Число дворов, душ, работников и голов скота в поместье Ф. Соколовой в 1804 г.
Number of farmyards, souls, workers and livestock in the estate of F. Sokolova in 1804
Table 2
Примечание: 1 – душ обоего пола; 2 – 10 голов мелкого скота засчитаны за одну особь крупного скота. Источники: РГИА. Ф. 515. Оп. 7. Д. 37. Л. 19–187 об.; Оп. Д. 587. Л. 27 об.–32 об.
Sources: RGIA. F. 515. Op. 7. D. 37. P. 19–187 об.; Op. 10. D. 587. P. 27 об.–32 об.
мужчин и на 20,7 % женщин. Заметим, что в последнем имении наряду с Наремской волостью Кадниковского уезда число ревизских д. м. п. превышало число д. ж. п. (см. таблицы 1 и 2).
Материалы данных таблиц показывают, что наиболее заселенными оказались деревни поместья Ф. Соколовой, в котором по V ревизии в среднем в одном селении проживало 47,0 д. об. п., тогда как в имении Шаховской 25,9 д. об. п. (в Сольвыче-годском уезде – всего 21,5 души, в Великоустюгском уезде – 32,1 души). Однако по отдельным деревням наблюдались значительные отклонения. Некоторые селения были на грани запустения: в дер. Горка Удимской волости проживал один житель (к началу 1830-х гг. деревня обезлюдела), в дер. Козловской Нюбской волости – три жителя и в дер. Новина Пицкой волости – пять человек. В имении Шаховской из 78 селений только в с. Нокшин-ском Цареконстантиновской волости числилось свыше 100 душ, а в вотчине Щербатова по VII ревизии таких селений было четыре: Наремская слобода Верхнего конца в Кадниковском уезде и деревни Марково, Закобякино и Поповская в Грязовецком уезде [25, 26, 28]. В среднем по вотчине Щербатова людность деревень по VII ревизии составляла 46,8 д. об. п., т. е. приближалась к людности деревень в поместье Соколовой, в Комлевской и Наремской волостях даже превышала людность указанных деревень (см. таблицы 1 и 2). В среднем заселенность удельных селений относительно купленных была выше. Так, в Сольвычегодском уезде на одно удельное селение приходилось по 41,6 д. об. п. по V ревизии, в трех южных уездах Вологодской губернии – по 67,1 д. об. п., в Сямженской волости и вовсе по 101,8 души, в среднем по всем удельным селениям Вологодской губернии – по 43,6 д. об. п. [3, 29, 30].
Если деревни в имении княгини Шаховской были более малолюдными по сравнению с поместьями в южных уездах Вологодской губернии, то людность дворов, напротив, была заметно выше на северо-востоке губернии. Например, в 1804 г. в среднем по имению В.А. Шаховской на двор приходилось 7,6 д. об. п. по V ревизии, то в поместье Ф. Соколовой только 4,7 души, в вотчине Щербатова в 1824 г. – 5,9 души по VII ревизии. Еще разительней эта разница выглядела при учете данных по волостям, когда в Григоровской, Вондокурской и Кузнецовской волостях в среднем по двору обитало свыше 8 душ и в Шешурской волости – даже более 10 д. об. п. (см. таблицы 1 и 2). Усредненная людность дворов наблюдалась по всем селениям Вологодской губернии, где ее показатель в 1800 г. составлял 6,4 д. об. п. [3, с. 21].
Необходимо отметить, что в помещичьих имениях число семей в среднем превышало количество дворов. Иными словами, в некоторых случаях в одном дворе проживало по несколько крестьянских семей (см. таблицы 1 и 2). Такая ситуация была характерна и для удельной деревни, в которой с 1830-х гг. Департамент уделов вынужден был вмешиваться в этот процесс [31].
Бытование более многолюдных дворов на северо-востоке Вологодской губернии объяснялось суровыми условиями хозяйствования и необходимостью ведения разнообразной неземледельческой деятельности, что требовало больше рабочих рук и, соответственно, существование многодетных семей. Вероятно, подобными обстоятельствами объяснялся и более высокий процент работников в этих отдаленных районах губернии. В 1804 г. в среднем по поместью княгини Шаховской «тягловые» работники (возраст от 18 до 60 лет) составляли 57,7 % ревизских д. м. п., тогда как в вотчине князя Щербатова – 49,8 %. В имении помещицы Соколовой на полноценных работников приходилось 53,2 % от ревизских д. об. п. (см. таблицы 1 и 2). Однако известно, что доля работников среди женщин была выше, нежели среди мужчин [3, с. 20].
Конечно, по отдельным волостям доля работников разнилась. Так, в 1804 г. в поместье Шаховской только в одной Горской волости они составляли 47,3 % от ревизских д. м. п., тогда как в Устьевской волости – 51,0 % и в остальных восьми волостях – от 56,1 до 68,2 %, а в имении Щербатова в 1824 г. эти показатели не превышали 52,3 % (см. табл. 1). Следует признать, что в целом по удельной деревне Вологодской губернии доля работников редко превышала половину ревизских душ, во всяком случае в 1840-х гг. [3, с. 20]. Отметим, что по сравнению с общегубернскими показателями и доля «полутягловых» работников (возраст от 16 до 18 лет) в помещичьих имениях была выше, составляя, например, в среднем по поместью Шаховской 11,5 % от
Таблица 3
Обеспеченность землей и скотом крестьян и доход с них в имении княгини В.А. Шаховской в 1804 г.
Provision with land and livestock for peasants and income from them in the estate of Princess V.A. Shakhovskaya in 1804
Table 3
|
Деревня, волость, уезд |
Десятин на душу м. п. по V ревизии1 |
Голов в расчете на 100 душ об. п. по V ревизии |
Доход, руб.2 |
||||||||
|
Усадьба |
Пашня |
Сенокос |
Всего |
Лошади |
Крупный рог. скот |
Мелкий скот |
Все-го3 |
Пти-ца4 |
Всего |
Оброк |
|
|
Половники (деревни): |
|||||||||||
|
Окуловка5 |
0,27 |
1,4 |
– |
1,7 |
37,1 |
165,7 |
117,1 |
214,6 |
77,1 |
6,76 |
5,50 |
|
Нероновская |
0,20 |
1,3 |
17,9 |
19,4 |
62,5 |
112,5 |
137,5 |
188,8 |
75,0 |
3,75 |
2,49 |
|
Крестьяне (волости): |
|||||||||||
|
Горская |
0,21 |
3,0 |
9,3 |
12,5 |
23,3 |
83,0 |
117,0 |
118,0 |
32,4 |
6,04 |
4,78 |
|
Григоровская |
0,17 |
1,9 |
12,5 |
14,8 |
30,1 |
161,0 |
122,0 |
203,3 |
53,7 |
4,85 |
3,59 |
|
Нюбская |
0,26 |
3,2 |
3,3 |
6,7 |
32,9 |
96,1 |
127,0 |
141,6 |
40,8 |
6,49 |
5,23 |
|
Пицкая |
0,28 |
2,1 |
3,1 |
5,4 |
37,4 |
98,1 |
186,5 |
154,1 |
43,9 |
8,52 |
7,26 |
|
Устьевская |
0,18 |
1,1 |
2,5 |
3,7 |
35,2 |
105,9 |
132,4 |
151,3 |
32,4 |
4,84 |
3,58 |
|
Шешуровская |
0,24 |
2,6 |
5,9 |
8,7 |
23,8 |
78,8 |
96,9 |
112,2 |
35,0 |
6,07 |
4,81 |
|
Сольвычегодский уезд6 |
0,22 |
2,4 |
8,8 |
11,5 |
29,4 |
99,2 |
128,9 |
141,5 |
38,8 |
6,28 |
5,02 |
|
Сольвычегодский уезд, включая половников |
0,23 |
2,4 |
8,6 |
11,2 |
30,0 |
101,6 |
128,6 |
144,4 |
40,5 |
6,26 |
5,00 |
|
Вондокурская |
0,11 |
2,3 |
2,2 |
4,6 |
30,3 |
101,1 |
169,0 |
148,2 |
46,8 |
4,64 |
3,38 |
|
Кузнецовская |
0,18 |
2,4 |
0,3 |
2,9 |
29,0 |
112,4 |
119,9 |
153,5 |
49,8 |
6,01 |
4,75 |
|
Удимская |
0,22 |
1,9 |
0,6 |
2,8 |
35,4 |
97,3 |
173,0 |
150,0 |
60,6 |
7,89 |
6,63 |
|
Цареконстантиновская |
0,23 |
1,8 |
0,7 |
2,7 |
33,1 |
75,3 |
136,7 |
122,0 |
64,4 |
5,04 |
3,78 |
|
Великоустюгский уезд |
0,18 |
2,1 |
1,0 |
3,3 |
31,9 |
96,0 |
149,7 |
142,8 |
55,3 |
5,79 |
4,53 |
|
Всего |
0,20 |
2,2 |
4,7 |
7,1 |
30,9 |
98,8 |
139,3 |
143,6 |
48,8 |
6,02 |
4,76 |
Примечание: 1 – итоговые показатели могут не совпадать в связи с сокращениями цифр до десятых долей; 2 – доход в расчете на душу м. п. по V ревизии; 3 –10 голов мелкого скота засчитаны за одну особь крупного скота; 4 – в дер. Окуловка, кроме кур, имелось два гуся; 5 – сенокосом и лесом «пользуются при других селениях»; 6 – включая 988,5 дес. сенокоса в дачах по р. Лахома.
Источники: РГИА, Ф. 515. Оп. 7. Д. 10. Л. 41–183 об.; Оп. 10. Д. 587. Л. 27 об.–32 об.
Sources: RGIA. F. 515. Op. 7. D. 10. P. 146 об.–147; Op. 10. D. 587. P. 27 об.–32 об.
ревизских д. м. п., по волостям – от 9,1 до 16,7 % (см.табл. 1) [3, с. 20].
Данные табл. 3 показывают, что в 1804 г. в среднем на одну ревизскую д. м. п. в имении Шаховской приходилось 7,1 дес. тягловой земли, в том числе пашни – 2,2 дес. и сенокоса – 4,7 дес. По волостям наблюдались существенные колебания:в Устьевской волости душевой надел пашни составлял 1,1 дес., а в Нюбской волости – 3,2 дес. В обеспеченности пашней различия между крестьянами по уездам рассматриваемого имения были не существенными. Другое наблюдалось в отношении сенокосов – ими лучше были обеспечены крестьяне Сольвычегодского уезда, в котором их площадь на душу составляла от 3,7 до 12,5 дес. (всего 8,6 дес.), против от 0,3 до 2,2 дес. (всего 1,0 дес.) в Великоустюгском уезде (см. табл. 3). В целом по удельной деревне Вологодской губернии наделы были меньше – в 1800 г. на 1 ревизскую д. м. п. приходилось по 1,2 дес. пашни и 0,6 дес. сенокоса [32]. Нужно осознавать, что в реальности угодий насчитывалось больше, особенно сенокосов, которые были разбросаны по лесам и трудно учитывались. В Соль-вычегодском уезде, например, в распоряжении кре- стьян княгини Шаховской находились «дачи по реке Лахоме», в которых было «988,5 дес. покосов, 150,8 леса при селениях и 8799,9 дес. леса отхожего» (см. карту) [22, л. 146 об.–147]. Всего в имении Шаховской на одну ревизскую мужскую душу в Соль-вычегодском уезде приходилось по 11,2 дес. леса «при селениях» и 21,1 дес. «отхожего» леса, в Великоустюгском уезде соответственно – 2,6 и 3,6 дес. леса [22]. Отметим, что после покупки поместий удельное ведомство стало считать лес сугубо своей собственностью и предоставление части его крестьянам при отмене крепостного права засчитывало «лесные и кустарные заросли» в качестве прирезки [33, 34].
Материалы табл. 3 показывают, что в имении Шаховской в расчете на 100 д. об. п. приходилось 30,9 лошадей, 98,8 голов крупного рогатого скота, 139,3 голов мелкого скота и в пересчете на крупный скот – 143,6 голов. При этом обеспеченность скотом крестьян имения по уездам оставалась примерно на одном уровне. Правда, в Сольвычегодском уезде в расчете на 100 душ крестьян было немного больше коров, в Великоустюгском уезде – лошадей и мелкого скота. Конечно, по волостям такие разли- чия были иногда очень зримыми. В Вологодском уезде, в поместье Соколовой, обеспеченность рабочим скотом была лучше. Здесь в расчете на 100 д. об. п. приходилось 46,8 лошадей, 98,9 коров и 131,9 голов мелкого скота (см. табл. 2). Отметим, что у крестьян Соколовой имелось больше кур и петухов. У них на 100 д. об. п. приходилось 193,1 шт. птицы, тогда как в имении Шаховской – 48,8 шт. (см. таблицы 2 и 3). В целом по удельной деревне Вологодской губернии в среднем в 1798–1799 гг. в расчете на 100 д. об. п. имелось 27,3 лошадей, 81,0 коров, 74,0 голов мелкого скота и в пересчете на крупный скот – 115,7 голов [35, 36]. Иными словами, крестьяне купленных имений превосходили удельных поселян и по указанному основополагающему компоненту хозяйствования.
Среди историков принято считать, что помещичьи крестьяне выплачивали в пользу собственника большие подати, нежели крестьяне казенные и удельные. Этот посыл в целом подтверждается. Так, в 1798–1810 гг. для удельных поселян Вологодской губернии был определен единый оброк в размере 4,08 руб. с ревизской д. м. п., тогда как в 1804 г. в Сольвычегодском уезде оброк с ревизской души в пользу княгини Шаховской составлял 5,0 руб., в Великоустюгском – 4,53 руб. и в целом по имению – 4,76 руб. (см. табл. 3). Однако в имении Шаховской душевой оброк варьировался по волостям и для 371 ревизской души крепостных, или 40,5 % он был даже меньше, чем в удельной деревне (см. табл. 3). В 1810 г. удельный оброк для 8 289 ревизских д. м. п. Вологодской губернии, включая бывших крепостных Шаховской, был определен в размере 7,0 руб., в 1812 г. увеличен до 8,0 руб. [37, 38], т. е. крепостные полностью переводились на удельные нормы. Иное наблюдалось по вотчине Щербатова, в которой в 1824 г. существовал 20-рублевый душевой оброк и на котором крестьян оставили в уделе. После многочисленных жалоб «покупным» крестьянам душевые оброки с 1827 г. снизили до 15,0 руб., тогда как удельные крестьяне Вологодской губернии с 1824 г. выплачивали по 8,0 руб. с ревизской д. м. п. [28, л. 221–227; 39]. Положение для упомянутых бывших крепостных усугублялось тем, что удел вскоре стал разворачивать так называемую политику попечительства [31, 40]. В ее рамках существенно ограничивалось отходничество и возможности для промыслов, вводилась общественная запашка и другие меры регулирования для свободы хозяйствования [41, 42].
Таким образом, покупка уделом помещичьих имений в 1804 и 1824 гг. изменила ситуацию в удельной деревне Вологодской губернии. Площадь владений ведомства и численность крестьян заметно возросли в Сольвычегодском, Вологодском, Кад-никовском и Грязовецком уездах. За счет «покупных» удельные крестьяне появились в Великоустюгском уезде. В результате в Вологодской губернии были сформированы два удельных отделения и несколько новых волостей. Заселенность приобретенных селений уступала таковой в целом по удельной деревне Вологодской губернии, тогда как людность дворов в дворянских поместьях на юге губернии была ниже, чем на северо-востоке регио- на. Основные элементы хозяйствования крестьян в помещичьих имениях выглядели более предпочтительными относительно этих элементов в удельных поселениях губернии. Крепостные дворы имели более высокую долю работников, в расчете на ревизские души – больше земельных угодий и рабочего и продуктивного скота.
Список литературы Характеристика помещичьих имений Вологодской губернии, приобретенных удельным ведомством в 1804 и 1824 годах
- Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII - в первой половине XIX в. (По материалам ревизий). М., 1971. 190 с.
- Васильев Ю.С. Избранные труды по истории Европейского Севера России XII - XVII веков. 2-е изд., испр. и доп. Вологда, 2013. 256 с.
- Котов П.П. Удельные крестьяне на Европейском Севере России: размещение и демографические процессы // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Общественные и гуманитарные науки». 2013. № 1 (130). С. 18-22.
- История крестьянства СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции в 5-ти т. М., 1993. Т. 3. 664 с.
- Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в. М., 1967. 400 с.
- Котов П.П. Роль законодательных актов Российской империи в изучении результативности земледелия в XVIII - XIX веков // История государства и права. 2010. № 22. С. 12-14.
- История северного крестьянства. Архангельск, 1984. Т. 1. 432 с.
- Колесников ПА. Северная деревня в XV -первой половине XIX века. Вологда, 1976. 416 с.
- Котов П.П. Повинности государственных крестьян Европейского Севера России в конце XVIII - первой половине XIX в. // Социально-демографические аспекты истории Северного крестьянства (XVII-XIX вв.). Сыктывкар, 1985. С. 74-86.
- Иловайский И.Б. Арендные отношения в государственной деревне во второй трети XIX в. (По материалам Вологодской губернии) // Аграрные отношения и история крестьянства Европейского Севера России (до 1917 года). Сыктывкар, 1981. С. 117-126.
- Котов П.П. Хозяйство удельных крестьян Севера середины XIX века // Хозяйство северного крестьянства в XVI - начале XX вв. Межвузовский сборник. Сыктывкар, 1987. С.21-29.
- Попов СА Паспортные документы сельского населения Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии в начале XX века // Ученые записки Петрозаводского университета. 2020. Т. 42. № 6. С. 83-90.
- Боголюбов ВА Удельные крестьяне // Великая реформа. В 6-ти т. М., 1911. Т. 2. С. 294-364.
- История уделов за столетие их существования. 1797-1897. В 3-х т. СПб., 1901-1902. Т.1. 723 с.
- История уделов за столетие их существования. 1797-1897. В 3-х т. СПб., 1901-1902. Т.2. 581 с.
- Гриценко Н.П. Удельные крестьяне Среднего Поволжья (Очерки). Грозный, 1959. 585 с.
- Никулина Н.Ю. Ликвидация удельной земельной собственности в России // Северо-Запад в аграрной истории России. Калининград, 1986. С. 38-45.
- Дунаева Н. В. Удельные крестьяне как субъекты права Российской империи (конец 18-первая половина 19 в.). СПб., 2006. 284 с.
- Индова Е.И. Дворцовое хозяйство России. Первая половина XVIII в. М., 1964. 352 с.
- Половинкин Н.С. Дворцовые (удельные) крестьяне Среднего Поволжья и Приуралья (вторая половина XVI - первая половина XIX веков). Тюмень, 1992. 142 с.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое. СПб., 1830. (Далее -ПСЗРИ-1). Т. XXIV. № 17906. С. 525-569.
- Российский государственный исторический архив (далее - РГИА). Ф. 515. Оп. 7. Д. 10.
- ПСЗРИ-1. Т. XXV. № 18423. С. 126.
- РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 13. Л. 43-48.
- РГИА. Ф. 515. Оп. 10. Д. 587. Л. 9 об.-13, 25 об.-28 об.
- РГИА. Ф. 515. Оп. 7. Д. 37.
- ПСЗРИ-1. Т. XXX. № 23020. С. 226-258.
- РГИА. Ф. 515. Оп. 10. Д. 773. Л. 1-227.
- Государственный архив Архангельской области (далее - ГААО). Ф. 1. Оп. 3. Д. 277. Л. 13 об. - 14.
- РГИА. Ф. 515. Оп. 5. Д. 7. Л. 1 об.-321.
- Котов П.П. Политика попечительства удела и ее результаты: на примере Европейского Севера России // Вестник Удмуртского университета. Серия 5: История и филология. 2012. Вып. 3. С. 103-107.
- РГИА.. Ф. 515. Оп. 5. Д. 67. Л. 1 об.-181.
- Котов П.П. К вопросу о реформе 1863 г. на Севере // Изучение аграрной истории Европейского Севера СССР на современном этапе. Сыктывкар, 1989. С. 78-83.
- Котов П.П. О земельном обеспечении бывших удельных крестьян по реформе 1863 года // Буржуазные реформы в России второй половины XIX века. Воронеж, 1988. С. 54-63.
- РГИА.. Ф. 515. Оп. 5. Д. 838. Л. 83-122 об.
- РГИА. Ф. 515. Оп. 5. Д. 839. Л. 37-78.
- РГИА.. Ф. 515. Оп. 13. Д. 791. Л. 26-34.
- ПСЗРИ-1. Т. XXXI. № 24708. С. 806.
- РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 31. Л. 27-32.
- Гриценко Н.П. Политика феодального «попечительства» удельного ведомства над крестьянами // Ученые записки Чечено-Ингушского педагогического института. 1958. № 10. С. 249-287.
- Котов П.П. Особенности отходничества удельных крестьян Европейского Севера России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 2012. Вып. 3. С. 149-155.
- Котов П.П. Общественная запашка в удельной деревне России в 1828-1861 годах: по материалам Европейского Севера // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2018. Т. 28. №. 1. С. 13-22.