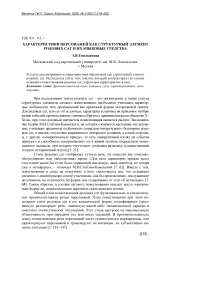Характеристики персонажей как структурный элемент родовых саг и их языковые средства
Автор: Емельянова Энния Викторовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются характеристики персонажей как структурный элемент родовых саг. Исследуется стиль этих текстов, который контрастирует со стилем основного повествования родовых саг, и функции характеристик в саге.
Древнеисландский язык, родовые саги, характеристики, аллитерация
Короткий адрес: https://sciup.org/146281682
IDR: 146281682 | УДК: 811.
Текст научной статьи Характеристики персонажей как структурный элемент родовых саг и их языковые средства
При исследовании текста родовых саг – его организации, а также статуса структурных элементов сагового повествования, необходимо учитывать характерные особенности этих произведений как архаичной формы исторической памяти. Для родовых саг, или саг об исландцах , характерна установка на правдивое изображение событий, происходивших главным образом в древнеисландском обществе X– XI вв., при этом основным предметом повествования являются распри. Эволюционная теория М.И.Стеблин-Каменского, на которую опирается настоящее исследование, учитывает архаичные особенности социально-литературного бытования родовых саг, а именно отсутствие выраженного авторского сознания, с одной стороны, и, с другой, «синкретическую правду», то есть синкретичный взгляд на события прошлого и способность воспроизводить их в живой полноте посредством неосознанного вымысла, при котором отсутствует установка разделять художественный и строго исторический подход [7: 23].
Стиль родовых саг отображает устную речь, он известен как «чистая», «безусловная» или «абсолютная» проза. «Для него характерно прежде всего отсутствие каких бы то ни было украшений или фигур, даже эпитетов, не говоря уже о метафорах», – отмечает М.И.Стеблин-Каменский [7: 62]. Вместе с тем, повествование в сагах не гомогенно: в него «включалось все, что содержало сведения о данной распре или её участниках, как бы произведение, послужившее источником, не отличалось по форме или содержанию от «саг об исландцах» [7: 68]. Таким образом, в составе сагового повествования находят место юридические формулы, генеалогические перечни и скальдическая поэзия.
Общий план повествования родовых саг функционально и стилистически противопоставлен речам персонажей. План повествования при этом воплощает стиль родовых саг в его классической форме, кодифицирует усредненную разговорную речь, лишенную какой-либо эмоциональной окраски и заметных стилистических отклонений. Этот стиль настроен на максимальную объективность при передачи тех или иных сведений. В противоположность плану повествования речи персонажей часто стилистически маркированы, они характеризуют персонажей и транслируют их интенции, их субъективное видение ситуации [2: 144–145].
К плану повествования примыкает особый тип текстов – характеристики персонажей. Вводные характеристики являются наиболее распространенным и типичным способом представления нового персонажа в повествовании, в то время как дополнительные характеристики могут содержать уточняющие сведения о персонаже, который упоминался ранее. Минимальной и основной характеристикой персонажа «саг об исландцах» является его имя. Эта характеристика может быть дополнена сведениями о родственных связях персонажа, его месте жительства и общественном статусе, а также описаниями внешности и черт характера:
(«Сага о Греттире, гл. 27) «Хавлиди звали человека, жившего у Китовой Горы на Белой Реке. Он был купцом и у него был торговый корабль. С ним ходил на корабле человек, по имени Бард. У него была жена молодая и красивая» [4: 26], [10: 974].
Имя человека выступает, с одной стороны, как данность традиции, а с другой – как имя действующего лица в повествовании, таким образом вводные характеристики взаимодействуют с планом повествования, отсылая к последующим эпизодам саги. Имена персонажей, их родственников и предков, являлись важнейшей составляющей фоновых знаний аудитории, место человека в генеалогии служило своего рода временным ориентиром. При этом случающиеся расхождения между именами и генеалогиями в разных сагах объясняются «текучестью» устной традиции, в которой зарождались и бытовали саги до того, как были записаны [9: 123–125; 253–254]. Характеристики являются таким образом составляющей исторического фона – текстов, примыкающих в эпизодам саг, которые служат временным ориентиром, таковы, сведения о правлениях норвежских конунгов или сообщение о христианизации Исландии. Общей особенностью исторического фона является последовательное употребление форм претерита при описании событий прошлого [6: 29], в то время, как для общего плана повествования характерно чередование прошедшего времени с историческим настоящим, которое рассматривается в ряду прочих особенностях стиля родовых саг, сближающих их с устной речью [6]. Предельно свободная смена временных форм, характерная для плана повествования, чередующегося с речами персонажей, объясняется отсутствием фиксированной точки зрения рассказчика, что связано с господством в сагах синкретической правды [6: 31].
Исторический фон воспринимался рассказчиком и его аудиторией как внешнее по отношению к эпизодам саг знание, устоявшееся в устной традиции. Последовательное употребление форм претерита – одно из языковых средств, выделяющих характеристики персонажей. Таким образом отмечается дистанция между историческим фоном и внутриэпизодическим временем. В противоположность плану повествования исторический фон содержит определённую точку зрения, свойственную традиции в целом, стоящую над повествованием в отдельных эпизодах саги и внешнюю по отношению к ним.
Таким образом исторический фон функционально и стилистически выделен и противопоставлен общему плану повествования. Характеристики персонажей занимают особое место в историческом фоне, так как они являются обязательной и системной частью повествования. На особую их роль в повествовании проливает свет исследование Е.А. Гуревич, посвященное аналогично- му структурному элементу в прядях – произведениях, сосуществующих с «сагами об исландцах» в рамках общей литературной традиции и непосредственно с ними взаимодействующих. Сопоставляя «введения» в прядях с характеристиками в сагах, Гуревич отмечает, что персонажи в прядях, как правило, вводятся без указания их родственных связей, в то время как упоминание родственников действующих лиц часто встречается в родовых сагах. Это не всегда можно объяснить незнатностью героя, которую подчеркивает введение прядей: значительным является тот факт, что действие прядей происходит вне исландского общества века саг [1: 59–60]. Напротив, для родовых саг, основным предметом повествования которых являются распри в древнеисландском обществе, указание родственных связей важно не в последнюю очередь потому, что оно ориентирует аудиторию, сообщая ей важные сведения о расстановке сил в конфликтах. [8: 60].
Эти выводы подтверждают и следующее различие: «введение» центрального героя пряди, как правило, единично, в то время, как характеристики действующих лиц «саг об исландцах» тяготеют к скоплению: главный герой часто представляется вместе с другими участниками конфликта [1: 61]. Таким образом, очевидна двунаправленность вводных характеристик: с одной стороны, они являются данностью исторического фона и содержат точку зрения, внешнюю по отношению к плану повествования, с другой стороны, содержащиеся в них сведения предвосхищают события эпизода.
Необходимо уточнить, что характеристики – не единственный способ представления нового персонажа в повествовании. Показательным примером является появление исландца по имени Барди в «Саге о Греттире», который вводится в сагу посредством диалога:
(«Саге о Греттире», гл. 28) «“Меня зовут Барди”, – сказал вошедший. “Ты что, Барди, сын Гудмунда с Асбьёрнова Мыса?” – “Он самый”, – сказал Барди» [4: 51], [10: 998].
Как уже отмечалось, речи персонажей являются проводником в сагу субъективного. Если сведения, представленные в историческом фоне безусловно правдивы с точки зрения носителей традиции, то качество информации, транслируемой речами персонажа, характеризует его намерения и ситуацию, в которой он действует. Правдивость или лживость таких сведений может быть очевидна по контексту или по дальнейшему развитию событий. Так, в 72 гл. той же саги главный герой, объявленный вне закона Греттир Асмундарсон, сообщает ложную информацию – он утаивает свое имя и представляется как Гест. Благодаря этой хитрости герой смог вынудить собравшихся на тинге принести ему клятву, которая его обезопасила на время тинга [10: 1064–1065].
Симптоматично, что в 29 гл. «Саги о Греттире» дается уточняющая характеристика вышеупомянутого Барди, представленного в форме диалога. В этой характеристике подробнее говорится о его родственных связях, она предваряет эпизод, в котором снова будет участвовать этот персонаж [10: 1002]. Данный пример демонстрирует, что типичная вводная характеристика не является необходимым условием появления лица, действующего в саге, – на протяжение 28 главы Барди, введенный в сагу посредством диалога, выступает как полноценный участник событий. А с другой стороны, последующая характери- стика Барди показывает, что носителями традиции всё же ощущалась потребность транслировать фоновые знаниях об участниках событий саг. Именно то, что исторический фон содержит определённую точку зрения, внешнюю по отношению к эпизодическому в саге, даёт возможность характеристике, с одной стороны, верифицировать сведения, содержащиеся в предыдущем эпизоде, а с другой, – служить введением к следующему эпизоду. Характеристика таким образом выступает как закономерность сагового повествования.
Двунаправленность характеристик, их взаимодействие с эпизодом, позволяет канонизировать в историческом фоне не только самую общую информацию о человеке, но и сведения, касающиеся определённых этапов его жизни. Иногда дополнительные характеристики даются в особо важный момент жизни героя [7: 56]. Таким образом, у характеристик нет строго определённого места в повествовании, они – своего рода информационные сгустки, которые встраиваются в план повествования, контрастируя с ним. При этом характеристики выделяются не только последовательным употреблением в них форм претерита, но и другими языковыми средствами. Так, наряду с обычными для стиля саг литотами в характеристиках часто употребляется превосходная степень. В следующем примере употребление превосходной степени позволяет описать реальное положение дел.
(«Сага о Курином Торире, гл. 1) «Был человек по имени Блюнд-Кетиль, сын Гейра Богатого со Склона Гейра… Он был самым популярным человеком в округе (hann var hinn vinsælasti maðr í héraðinu)» [10: 1417].
Описанное положение дел актуально для последующего развития событий, сведения о положении Блюнд-Кетиля в обществе важны для понимания расстановки сил в предстоящем конфликте.
Из следующего контекста очевидно, что употребление превосходной степени вносит экспрессию и заостряет внимание аудитории на определённом признаке персонажа, также существенном для развития последующих событий:
(«Сага о Ньяле», гл. 36). «У Халльгерд был надсмотрщик по имени Коль. Он давно жил у нее и был отъявленным злодеем (букв., «и был самым большим злодеем» – ok var hit mesta illmenni) [3: 500], [10: 164].
В плане повествования саг оценочные суждения, как правило, не встречаются. Ошибочно было бы предполагать, что негативная оценка человека в его характеристике отражает авторскую точки зрения, – последняя по условию отсутствует в саговом повествовании. В характеристике отражается определённая точка зрения, внешняя по отношению к плану повествования, и таким образом транслируется устоявшиеся в традиции представления о людях определённых типов, иначе говоря, распространяется «дурная молва».
Возникновение характеристик в составе сагового повествования, видимо, является следствием взаимодействия языка родовых саг и языка закона, а сама традиция характеристик развилась в устной речи в ходе судебных практик. В «Саге о союзниках» упомянут обычай описывать внешность осужденного на тинге и приведен текст характеристики; данный текст функционирует как юридическая формула. Эта ситуация проливает свет на происхождение характеристик как структурного элемента родовых саг.
(«Сага о союзниках», гл. 6). « И на Скалу Закона утром встает Одд и громко произносит: „Здесь ночью в Суде Северной Четверти за убийство Вали был осужден человек, которого зовут Оспак. И, что касается примет осужденного, то он высокого роста и мужественный на вид. У него каштановые волосы и крупные черты лица, чёрные брови, крупные руки, широкие голени и сложение у него примечательно крупное, и человек он самой злодейской наружности (og er maðr hinn glæpamannlegasti)» [10: 10] .
Нам сложно судить о том, смог ли Одд соблюсти обычай и насколько типичной для подобных практик является характеристика, данная им осужденному. Из дальнейшего повествования мы узнаем о том, что присутствующие на тинге были поражены поведением Одда. Их реакция относилась прежде всего к тому, что Одду удалось тайно от своих врагов провести процедуру осуждения Оспака. Так или иначе, предприятие Одда посчитали успешным, а стиль его речи не помешал утверждению приговора, следовательно, его выступление не рассматривалось как фатальное отклонение от техники процедуры и норм приличий. Данная характеристика по стилю существенно не отличается от приведенной выше вводной характеристики Коля, – в обеих содержится оценочное суждение, которое подчеркнуто употреблением превосходной степени и узаконивает представление и о Коле, и об Оспаке как о преступниках, причем характеристика последнего узаконивает этот статус в прямом смысле слова, так как речь, произнесенная на Скале Закона имеет юридическую силу. Объявленного вне закона можно было убить и не платить виру, публичное описание примет его внешности давало необходимые сведения боеспособным мужчинам и, вероятно, было нацелено на то, чтобы инициировать нападение на незащищенного законом исландца.
Можно предположить, что данная практика и тексты характеристик осужденных повлияли на становление стиля обсуждаемого структурного элемента саг. Этим объясняется и тот факт, что подробные описания внешности встречаются, как правило, только в характеристиках мужчин – женщины не подвергались такой форме судебного преследования и не становились объектами «охоты».
Особенностью, роднящей стиль характеристик с юридическими формулами, с которыми они связаны происхождением, является возможность появления в них аллитерационных цепочек. Таковы тексты клятв, которые могут включаться в саговое повествование, например, «Клятва о мире» из «Саги о Греттире» (гл. 72), текст которой членится с помощью аллитерации на цепочки разной длины: «Hér set ek grið allra m anna á m illum... ölrum g oðorðmönnum ok g ildum bændum, ok a llrar a lþyðu v ígra manna ok v opnfæra», – «Провозглашаю мир между всеми людьми и всеми годи и добрыми бондами, всеми, кто может держать оружие » [5: 175; 10: 1065].
Сходным образом аллитерация членит текст при описании Клауви из «Саги о Долине Сметающего» (гл. 15), при этом она усиливает экспрессию, свойственную характеристике этого персонажа: черты внешнего уродства, описанные в характеристике, усиливают впечатление от типичного поведения берсерка, которое свойственно Клауви, о чем повествуется в эпизодах саги: «Hann var úteygðr ok ennisbrattr, mjök munnljótr ok neflítill, hálslangr ok hökumikill, skolbrúnn ok skarpleitr», – «У него были выпученные глаза и крутой лоб, у него был очень некрасивый рот и маленький нос, длинная шея и крупный подбородок, тёмные брови и острые черты лица» [10, 1987: 1800]. Аллитерационные цепочки в тексте характеристик возможны, но они не являются широко распространенным явлением. Можно говорить не столько о тенденции к их употреблению в данном структурном элементе родовых саг, сколько об отсутствии стилистического запрета на их включение в характеристики, который, очевидно, действует в общем плане повествования.
Другим заметным отличием стиля характеристик от стиля плана повествования являются возможные в них метафоры, например, про Гуннара с Конца Склона сообщается, что «он плавал как тюлень (hann var syndr sem selr)» , («Сага о Ньяле», 19 гл.) [10: 147]; про Кьяртана Олавссона говорится, что «Густые волосы у него были и прекрасные как шелк (fagurt sem silki)» («Сага о людях из Лососьей Долины», гл. 28) [10: 1574]. Метафоры в характеристиках персонажей поэтизируют и канонизируют в традиции приметы исторических лиц, контрастируя с общим стилем повествования. Этот художественный прием работает на сохранение исторической памяти исландцев и является архаичной чертой данной традиции.
Перечисленные языковые средства характеристик в той или иной мере способствуют их выделению над уровнем плана повествования и, наряду с последовательным употреблением в них претерита, подчеркивают дистанцию между планом повествования и историческим фоном саги. В то же время характеристики могут заострять внимание аудитории на сведениях, важных для развития последующих событий.
Список литературы Характеристики персонажей как структурный элемент родовых саг и их языковые средства
- Гуревич Е. А. О типе Введения в "прядях об исландцах" // Атлантика М. 2004. № 6. С. 59-74
- Емельянова Э.В. Организация контекста родовых саг как средство трансляции культурной информации на примере сведений о "воспитании" и "жизнедарении" // Вестник МГУ, сер. Филология. 2014. № 4. С. 143-154.
- Исландские саги. М.: Художественная литература, 1956. 783 с.
- Сага о Греттире. Новосибирск, 1976. 175 с.
- Смирницкая О. А. Стих и язык древнегерманской поэзии. М.: Филология, 1994. 484 с.
- Смирницкая О.А. Функции глагольных временных форм в сагах об исландцах // Смирницкая О. А. Избранные статьи по германской филологии. М. Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, МАКС Пресс, 2008. С. 26-41.
- Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984. 247 с.
- Byock J. Feud in the Icelandic Saga. Berkeley, 1993. 300 с.
- Gísli Sigurdsson. The Medieval Icelandic Saga and Oral Tradition. Cambridge, 2004. 416 с.
- Íislendinga sögur. Reykjavik, 1987. 2348 с.