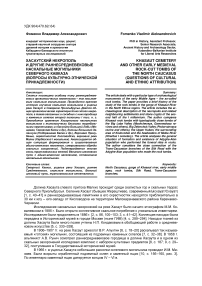Хасаутский некрополь и другие раннесредневековые наскальные могильники Северного Кавказа (вопросы культурно-этнической принадлежности)
Автор: Фоменко Владимир Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена особому типу раннесредневековых археологических памятников - так называемым скальным могильникам. Приводится краткая история изучения скального могильника в ущелье реки Хасаут в Северном Приэльбрусье. Дается общая археологическая характеристика этого некрополя, а также связанных и соседних с ним городища и каменных склепов второй половины I тыс. н. э. Проводится сравнение Хасаутского наскального могильника с типологически близкими погребальными памятниками из бассейна Большой Лабы (Мощевая, Гамовская балки и др.), долины Большого Зеленчука (Подорванная Балка и др.), Верхнего Прикубанья, окрестностей Кисловодска, верховий реки Малки (Харбазский I могильник). Анализируется общая ситуация формирования и существования адыго-аланского населения, совершавшего обряды скальных захоронений. Подтверждается тесная связь транскавказских ветвей Великого шелкового пути с адыго-аланским населением, оставившим наскальные могильники.
Северный кавказ, ущелье реки хасаут, раннее средневековье, скальные могильники, великий шелковый путь, транскавказские ответвления
Короткий адрес: https://sciup.org/14941058
IDR: 14941058 | УДК: 904(470.62/.64)
Текст научной статьи Хасаутский некрополь и другие раннесредневековые наскальные могильники Северного Кавказа (вопросы культурно-этнической принадлежности)
Долина Хасаута (левого притока Малки) проходит среди скалистых гор и скальных террас Северного Приэльбрусья. Селение Хасаут (бывшее Жерештиево, современный Ысхауат/Схауат) [1, с. 40–47] и раннесредневековые памятники в его окрестностях находятся приблизительно в 30 км к югу – юго-западу от Кисловодска на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии.
Исследование наскальных захоронений на реке Хасаут было начато этнографом M.М. Ковалевским в 1885 г. Было открыто коллективное скальное погребение с уникальным инвентарем. Исследования были продолжены в 1886 г. [2, с. 86, 100–103; 3, с. 41–42]. Коллекция находок была передана в Исторический музей в городе Москве (ныне ГИМ) [4, с. 289–294]. Находки тканей из долины Хасаута были много позже учтены Н.П. Кондаковым в обобщающей работе о средневековом искусстве [5, с. 333–339].
В 1906–1907 гг. на реке Хасаут археолог В.Р. Апухтин [6, с. 18–20] раскапывал так называемый «готский» могильник, состоявший из подземных каменных склепов [7, с. 32–38]. В 1958 г. альпинист А.В. Рунич осмотрел раннесредневековое городище в долине Хасаута и в одном из скальных захоронений исследовал комплекс с набором культовых предметов [8, с. 187; 9, с. 29– 32], поступивших в Государственный исторический музей.
В 1966 г. в ущелье Хасаута небольшие раскопки склепового могильника проводил И.М. Ми-зиев. Были вскрыты ограбленный подземный склеп и каменный ящик [10, с. 156–160, рис. 3]. По инвентарю каменный ящик датируется концом IV – VI в.
В публикации пятигорского краеведа А.П. Рунича о скальных могильниках в окрестностях Кисловодска описываются исследования Хасаутского могильника в середине 60-х и начале 70-х гг. ХХ в. членами Кисловодской археологической секции [11, с. 167–178]. В 1978–1979 гг. кисловодский краевед С.Н. Пьянков исследовал интересное раннесредневековое захоронение в подземном склепе [12, p. 153–192; 13, с. 38–42].
Изделия из шелка и других тканей, найденные в Хасаутском скальном могильнике, учитывались А.А. Иерусалимской при изучении транскавказских ответвлений Великого шелкового пути и раннесредневековых торговых связей населения Северного Кавказа [14, с. 35–39; 15, с. 55–74; 16; 17, с. 6–7]. В публикациях В.А. Кузнецова неоднократно упоминается орнаментированный сафьяновый сапог, найденный альпинистом А.В. Руничем в Хасаутском скальном могильнике [18, с. 144–146, рис. 23; 19, с. 260; 20, с. 27–29]. При написании книги З.В. Доде о средневековом костюме народов Северного Кавказа также были использованы находки из скальных захоронений Хасаута [21].
Совсем недавно, в 2014 г., В.А. Кузнецов в своей очередной монографии, посвященной алано-осетинской проблеме, систематизировал, описал и опубликовал накопившийся разнородный материал из археологических памятников Хасаута [22, с. 15–46]. Основное содержание раздела монографии, посвященного памятникам Хасаута, В.А. Кузнецов позже повторил в специальной статье [23, с. 16–26].
C 2014 г. работы на могильнике проводит совместная экспедиция Государственного музея искусств народов Востока (Москва) и предприятия «Наследие» (Ставрополь). В 2014–2015 гг. было выделено три группы скальных гробниц. Использовались «новые методы» археологического исследования с привлечением «профессионального альпиниста» и «геликоптера с видеокамерой» [24, с. 196–197]. Известные на сегодняшний день материалы позволяют датировать здешние скальные захоронения в пределах конца VII – начала XI в. н. э. [25].
В.А. Кузнецов, обобщая итоги полевого изучения раннесредневековых памятников долины Хасаута, справедливо пишет: «Со второй половины XIX в. Хасаут стал известен археологическим кругам России, посещался неоднократно и оценивался как территория с интересными памятниками прошлого, но стационарных археологических исследований здесь никогда не было» [26, с. 11].
В результате упомянутых выше исследований 2014–2015 гг. три группы скальных захоронений Хасаутского некрополя получили название могильников 1–3 [27, с. 196–197]. Насколько обоснованно такое разделение на самостоятельные памятники? Считаем, что группы скальных могил недостаточно сильно удалены друг от друга. Нет возможности четко разделить их по устройству могил, хронологии и другим признакам. Потому известные на сегодня группы скальных захоронений в долине Хасаута можно считать одним некрополем. Более того, каменные склепы второй половины I тыс. н. э. [28, с. 32–42], расположенные вблизи групп скальных могил, также могут входить в этот некрополь, составляя его раннюю группу захоронений.
Как отмечают современные исследователи «Хасаутского комплекса», здесь «представлены два основных типа скальных могил: 1 – вырубленные в скале камеры; 2 – каменные гробницы, сложенные из камней в естественных скальных полостях (нишах, гротах, под навесами на карнизах, уступах и т. п.), разных вариантов (частично сложенные, частично выдолбленные)» [29, с. 196–197]. Все исследованные в 2014–2015 гг. погребения ранее были потревожены и ограблены. Некоторые скальные камеры содержали коллективные захоронения [30].
По данным В.А. Кузнецова, скальные погребения, исследованные в 1885 г. под руководством M.М. Ковалевского, захоронения в скалах и Хасаутское городище, осмотренные А.В. Руни-чем с группой пятигорских альпинистов во второй половине 50-х гг. ХХ в., «готский» могильник (раскопки В.Р. Апухтина 1906–1907 гг.) находятся в одной местности – основном археологически известном участке ущелья реки Хасаут [31, с. 20].
В этой местности находится «наибольшее скопление скальных погребений в ущелье Хаса-ута, …хотя есть непроверенные сведения местных информаторов о таких могильниках у самых истоков реки Хасаут» [32, с. 103]. Более или менее полная информация о скальных захоронениях ущелья Хасаута была собрана ставропольским археологом Т.М. Минаевой. Здесь (включая боковые балки) она насчитала всего 75 таких погребений, сгруппированных по несколько могил. Бо̀ льшая часть этих захоронений труднодоступна и осталась неисследованной [33, с. 22].
В своей недавней монографии В.А. Кузнецов описал и грунтовый могильник Хасаутского ущелья, находящийся рядом со скальными погребениями. Некоторые подземные каменные склепы и ящики этого некрополя отличались довольно незаурядным инвентарем. Богатое погребение второй половины V – первой половины VI в. здесь раскопал В.Р. Апухтин. Общая хронология Хасаутского грунтового могильника – конец IV – VIII в. Наиболее поздним является склеп, доследованный краеведом С.Н. Пьянковым в конце 70-х гг. ХХ в. Учитывая две сасанидские серебряные монеты Кавада I (488–531 гг.), найденные здесь, В.А. Кузнецов датирует этот комплекс VIII в. (возможно, его первой половиной) [34, с. 32–42].
Хасаутское городище, по данным В.А. Кузнецова, было обследовано летом 1957 г. пятигорским краеведом А.В. Руничем [35, с. 18]. Однако еще M.М. Ковалевский и И. Иванюков, побывавшие в Хасауте в 1885 г., видели близ селения «на вершинах гор следы полуразрушенных башен и укреплений», а на склонах правого берега реки – искусственные террасы [36, с. 102].
Исходя из описания и плана А.В. Рунича, В.А. Кузнецов пишет, что городище состояло из нижней и верхней частей. Нижняя часть располагалась на втором от реки ярусе скал с погребениями и была окружена каменной стеной в плане овальной формы со входом со стороны реки. На площади, ограниченной стеной, находятся развалины каменных строений. Верхняя часть городища расположена на четвертом ярусе скал над скальным обрывом и на плане была обозначена «башней». От руин каменной «башни» вниз по склону прослеживаются стены. Между стенами сохранились остатки сооружений из тесаных камней. В одном из разрушенных каменных домов к северо-западу от «башни» А.В. Рунич обнаружил раздавленный глиняный котел с внутренними ручками [37, с. 19–20].
Хасаутский наскальный могильник территориально можно отнести к группе памятников, находящихся в верховьях рек Малки и Баксан в горной части современного пограничья Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. На сегодняшний день эта группа является восточной периферией распространения в VIII–X вв. скальных могильников в предгорьях и среднегорьях Кавказа. Известны данные о скальных могильниках и в более восточных районах, но не ясен вопрос с датировкой этих памятников VIII–X веками [38, с. 32–35; 39, с. 39–40, 43]. В целом, исключая долину Хасаута, раннесредневековые памятники верхнего течения Малки и Баксана нельзя назвать хорошо изученными. Из других скальных могильников в этом районе более или менее детально изучались могильник Харбаз I в Приэльбрусье [40, с. 922; 41, с. 331–340] и могильник Гунделенский скальный II близ селения Заюково у входа в ущелье Баксана [42]. Сведения о нескольких других скальных могильниках, расположенных в верховьях Малки и Баксана, крайне малы [43, с. 40–41].
Важной особенностью соседнего с Хасаутским Харбазского I могильника является его «сложносоставной» характер. По нашему мнению, соседство исследованных здесь недавно археологами подземных каменных склепов V–VII (или начала VIII) вв. [44, с. 410–413] и непосредственно последующих по времени наскальных захоронений («пещер») VIII–IХ вв. [45] показывает качественный переход в VII–VIII вв. в погребальном обряде местного населения от строительства подземных каменных усыпальниц к сооружению гробниц в ближайших скалах.
Вряд ли можно сомневаться, что такой переход происходил и в близко расположенном Ха-саутском могильнике. Но в долине Хасаута, где известны скопления подземных каменных склепов V–VIII вв. и наскальных гробниц VIII–X вв., кардинальная смена погребального обряда местного населения менее очевидна.
В расположенной к северу от Хасаута Кисловодской котловине, по данным Д.С. Коробова, выявлено 29 скальных могильников (VII–IX вв.). Современный автор многолетних исследований раннесредневековых памятников окрестностей Кисловодска пишет: «Очевидно, что аланы, для которых характерно устройство катакомбных захоронений, по-видимому, массово заселяют Кисловодскую котловину в середине V в. н. э. и исчезают из нее в середине VIII в. н. э., когда их сменяет население, практикующее обряд захоронений под скальными навесами. …Вместе с изменением погребальной практики меняется техника домостроительства…» [46, с. 28–29]. Дмитрий Сергеевич описывает процесс проникновения скального обряда погребения в изучаемый им регион: «…Носители обряда захоронения в скальных нишах проникают в Кисловодскую котловину с запада, со среднего течения реки Эшкакон, где встречаются наиболее ранние погребения данного типа. …Это таинственное население, относимое некоторыми исследователями к тюркоязычным племенам (болгарам)…, оставило весьма мало следов в котловине помимо характерных захоронений под скальными навесами и исчезло без следа. …В X в. …на смену носителям скальных погребений опять приходят аланские племена, устраивавшие обширные грунтовые могильники из т-образных катакомб» [47, с. 29].
Никаких принципиальных отличий скальных могильников верховий рек Малки и Баксан (Ха-саут, Харбаз I) от типологически близких погребальных памятников Кисловодской котловины [48, с. 167–178; 49, с. 83–99], Верхнего Прикубанья [50], долины Большого Зеленчука (Подорванная Балка и др.) [51], бассейна Большой Лабы (Мощевая, Гамовская балки и др.) [52] не выявлено.
Вполне вероятно, что изначально обряд погребения в скалах зарождается в Верхнем Прикубанье или Восточном Закубанье и позже распространяется в Кисловодской котловине, верховьях Малки и Баксана. Интересной особенностью всех территориальных групп скальных могильников является устойчивое сочетание камер, вырубленных в скале, и погребений типа склепов или гробниц, устроенных в естественных скальных нишах [53, с. 173]. Появление и первого, и второго типов скальных погребений, вероятно, связано с интенсивным распространением новых религиозных верований. Эти верования, так сильно повлиявшие на погребальный обряд части населения предгорной и горной зон Верхнего Прикубанья и Центрального Предкавказья, возможно, включали в себя элементы зороастризма [54] и некоторых традиций христианства [55, с. 66].
Сугубо аланская или алано-болгарская версии этнокультурной принадлежности населения, оставившего скальные могильники, не находят каких-либо подтверждений. Наиболее вероятной является адыго-аланская версия, учитывающая, что ираноязычное население с катакомбным обрядом погребения в Восточном Закубанье и верховьях Кубани не было многочисленным. Вместе с тем важно обратить внимание на сходство в вещевом комплексе (формы и орнамент глиняной посуды, оружие, украшения, детали костюма, амулеты, предметы упряжи) между касо-жскими погребениями VIII–X вв. по обряду кремации Северо-Западного Кавказа и практически синхронными наскальными могильниками более восточных районов Предкавказья.
Время функционирования скальных могильников адыго-аланского населения, их погребальный инвентарь, расположение этих памятников VIII–X вв. указывают на их тесную связь и даже зависимость от транскавказских ветвей Великого шелкового пути. Оставившее наскальные захоронения население не имело компактного ареала распространения. Население, оставившее скальные могильники (Мощевая, Подорванная балки, Хасаут), было хорошо вооружено и обеспечивало охрану проходящих караванов. Часть провозимых товаров (шелковые одежды, украшения, оружие) оседало у местной знати в виде пошлины [56, с. 34].
Впрочем, население, оставившее скальные захоронения, вполне могло вести земледельческо-скотоводческое хозяйство. Например, долина Хасаута защищена горами от воздействия холодных северных ветров и имеет вполне благоприятный климат. Рядом расположены альпийские горные пастбища плато Бичесын [57, с. 16].
В X в. после падения Хазарии скальные могильники в основном перестают функционировать, в верховьях Большого Зеленчука появляется Нижне-Архызское городище – центр византийской Аланской епархии. На городище и в окрестностях современного Карачаевска были построены несколько православных храмов. Видимо, происходила номинальная христианизация местного населения [58, с. 34].
Ссылки и примечания:
-
1. Башиев А.М. К истории образования карачаевского аула Хасаут (Ысхауат): к постановке проблемы // Россия и Кавказ : материалы науч. конф. Владикавказ, 2009.
-
2. Иванюков И., Ковалевский М. У подошвы Эльборуса // Вестник Европы. 1886. Январь – февраль. Т. I.
-
3. Сизов В.И. Доклад о предметах, найденных М.М. Ковалевским в одной из пещер на Кавказе в 1885 г. // Древности :
-
4. Императорский Российский исторический музей : указ. памятников. 2-е доп. изд. М., 1893.
-
5. Кондаков Н.П. Очерки и заметки по истории средневекового искусства. Прага, 1929.
-
6. Коваленко А.Н., Савенко С.Н. Всеволод Ростиславович Апухтин. Археолог, краевед, музейный деятель. Пятигорск, 2011.
-
7. Кузнецов В.А. Северное Приэльбрусье и Кисловодская котловина в свете алано-осетинской проблемы. Владикавказ, 2014.
-
8. Кузнецов В.А. Очерки истории алан. Орджоникидзе, 1984.
-
9. Кузнецов В.А. Северное Приэльбрусье … С. 29–32.
-
10. Мизиев И.М. Некоторые итоги археологических работ в верховьях реки Малки в 1966 г. // Вестник Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института. 1968. № 1.
-
11. Рунич А.П. Скальные захоронения в окрестностях Кисловодска // Советская археология. М., 1971. № 2.
-
12. Kuznecov V. Deux riches tombes alaines des V-e–VI-e à Hasaut et a Klin-Yar (Caucase du Nord) // Les sites archeologiques en Crimée et dans le Caucase durant l’Antiquité tardive et le haut Moyen Age. Leyde, 2000.
-
13. Кузнецов В.А. Северное Приэльбрусье … С. 38–42.
-
14. Иерусалимская А.А. К вопросу о торговых связях Северного Кавказа в раннем Средневековье // Сообщения Государственного Эрмитажа. 1963. Вып. 24.
-
15. Иерусалимская А.А. О Северокавказском «Шелковом пути» в раннем Средневековье // Советская археология. М., 1967. № 2.
-
16. Иерусалимская А.А. Великий шелковый путь и Северный Кавказ. Л., 1972.
-
17. Иерусалимская А.А. Кавказ на Шелковом пути. СПб., 1992.
-
18. Кузнецов В.А. Алания в X–XIII вв. Орджоникидзе, 1971.
-
19. Кузнецов В.А. Очерки истории алан. Владикавказ, 1992.
-
20. Кузнецов В.А. Северное Приэльбрусье … С. 27–29.
-
21. Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. М., 2001.
-
22. Кузнецов В.А. Северное Приэльбрусье … С. 15–46.
-
23. Кузнецов В.А. Хасаутское городище и могильники и Мисимианский маршрут Великого шелкового пути // Вестник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. 2015. № 4 (27).
-
24. Белинский А.Б., Габуев Т.А., Савенко С.Н. Исследование скальных могильников Хасаутский 1 и 3 в 2015 г. // Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа : материалы междунар. конф. «XXIX Крупновские чтения». Грозный, 2016.
-
25. Там же. С. 196–197.
-
26. Кузнецов В.А. Северное Приэльбрусье … С. 11.
-
27. Белинский А.Б., Габуев Т.А., Савенко С.Н. Указ. соч. С. 196–197.
-
28. Кузнецов В.А. Северное Приэльбрусье … С. 32–42.
-
29. Белинский А.Б., Габуев Т.А., Савенко С.Н. Указ. соч. С. 196–197.
-
30. Там же.
-
31. Кузнецов В.А. Северное Приэльбрусье … С. 20.
-
32. Минаева Т.М. История алан Верхнего Прикубанья по археологическим данным. Ставрополь, 1971. С. 103.
-
33. Кузнецов В.А. Северное Приэльбрусье … С. 22.
-
34. Там же. С. 32–42.
-
35. Там же. С. 18.
-
36. Иванюков И., Ковалевский М. Указ. соч. С. 102.
-
37. Кузнецов В.А. Северное Приэльбрусье … С. 19–20.
-
38. Нарожный Е.И. Пещеры Бамутского и Келийского могильников (Чечня и Ингушетия) // Из практики кавказоведческих изысканий. Армавир ; Грозный, 1996.
-
39. Савенко С.Н. Из истории исследования раннесредневековых скальных погребений в бассейнах рек Кумы, Малки и Баксана // Вестник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. 2015. № 1 (24).
-
40. Керефов Б.М., Звягин В.Н. Новый раннесредневековый скальный (?) могильник в высокогорной долине реки Харабаз в Кабардино-Балкарии // Материал по изучению историко-культурного наследия. М., 2008. Вып. VIII (Крупновские чтения 1971–2006).
-
41. Садыков Т.Р. Поселенческий комплекс в составе памятника Харбас I // Бюллетень Института истории материальной культуры РАН. СПб., 2011. № 2.
-
42. См. материалы группы Средневековой Северо-Кавказской экспедиции Государственного исторического музея ( http://vk.com/clubsskae ).
-
43. Савенко С.Н. Указ. соч. С. 40–41.
-
44. Садыков Т.Р. Потревоженные, но неограбленные погребения раннесредневекового могильника Харбас-1 в Приэльбрусье // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда. Казань, 2014. Т. II. С. 410–413.
-
45. Охранно-спасательные раскопки в границах могильника Харбас 1 в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики [Электронный ресурс]. URL: http://www.rescuearcheo.ru/Harbas_1.htm (дата обращения: 28.08.2016).
-
46. Коробов Д.С. Этапы заселения Кисловодской котловины по данным археологии // Краткие сообщения Института археологии. М., 2013. Вып. 228.
-
47. Там же. С. 29.
-
48. Рунич А.П. Указ. соч. С. 167–178.
-
49. Коробов Д.С. К вопросу о скальных захоронениях Кисловодской котловины // Проблемы древней истории и культуры Северного Кавказа. М., 2004.
-
50. Демаков А.А. Скальные погребения в долине реки Теберды // Вопросы археологии и истории Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1991 ; Минаева Т.М. Указ. соч.
-
51. Кузнецов В.А. Нижний Архыз в X–XII вв. К истории средневековых городов Северного Кавказа. Ставрополь, 1993 ; Тихонов Н.А., Орфинская О.В. Могильники в районе Нижне-Архызского городища // Историко-археологический альманах. Армавир ; М., 1997. Вып. 3.
-
52. Иерусалимская А.А. Мощевая Балка. Необычный археологический памятник на Северокавказском «Шелковом пути». СПб., 2012.
-
53. Ковалевская В.Б. Кавказ и аланы. Века и народы. М., 1984.
-
54. Рудницкий Р.Р. О зороастризме у алан в VII–IX вв. // Историко-археологический альманах. Армавир ; М., 2001. Вып. 7.
-
55. Малахов С.Н. Материалы к церковной археологии Алании // Из истории и культуры народов Северного Кавказа. Ставрополь, 2010. Вып. 2.
-
56. Фоменко В.А. Северо-Западный и Центральный Кавказ в древности и средневековье (вторая половина II тыс. до н. э. – середина II тыс. н. э.): обзор актуальных вопросов социально-экономического и культурно-этнического развития. Нальчик, 2015.
-
57. Кузнецов В.А. Северное Приэльбрусье … С. 16.
-
58. Фоменко В.А. Указ. соч. С. 34.
труды Московского археологического общества. Т. XII, вып. I. Протоколы 16 мая 1886 г. М., 1888.
Список литературы Хасаутский некрополь и другие раннесредневековые наскальные могильники Северного Кавказа (вопросы культурно-этнической принадлежности)
- Башиев А.М. К истории образования карачаевского аула Хасаут (Ысхауат): к постановке проблемы//Россия и Кавказ: материалы науч. конф. Владикавказ, 2009.
- Иванюков И., Ковалевский М. У подошвы Эльборуса//Вестник Европы. 1886. Январь -февраль. Т. I.
- Сизов В.И. Доклад о предметах, найденных М.М. Ковалевским в одной из пещер на Кавказе в 1885 г.//Древности: труды Московского археологического общества. Т. XII, вып. I. Протоколы 16 мая 1886 г. М., 1888.
- Императорский Российский исторический музей: указ. памятников. 2-е доп. изд. М., 1893.
- Кондаков Н.П. Очерки и заметки по истории средневекового искусства. Прага, 1929.
- Коваленко А.Н., Савенко С.Н. Всеволод Ростиславович Апухтин. Археолог, краевед, музейный деятель. Пятигорск, 2011.
- Кузнецов В.А. Северное Приэльбрусье и Кисловодская котловина в свете алано-осетинской проблемы. Владикавказ, 2014.
- Кузнецов В.А. Очерки истории алан. Орджоникидзе, 1984.
- Мизиев И.М. Некоторые итоги археологических работ в верховьях реки Малки в 1966 г.//Вестник Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института. 1968. № 1.
- Рунич А.П. Скальные захоронения в окрестностях Кисловодска//Советская археология. М., 1971. № 2.
- Kuznecov V. Deux riches tombes alaines des V-e-VI-e à Hasaut et a Klin-Yar (Caucase du Nord)//Les sites archeologiques en Crimée et dans le Caucase durant l'Antiquité tardive et le haut Moyen Age. Leyde, 2000.
- Иерусалимская А.А. К вопросу о торговых связях Северного Кавказа в раннем Средневековье//Сообщения Государственного Эрмитажа. 1963. Вып. 24.
- Иерусалимская А.А. О Северокавказском «Шелковом пути» в раннем Средневековье//Советская археология. М., 1967. № 2.
- Иерусалимская А.А. Великий шелковый путь и Северный Кавказ. Л., 1972.
- Иерусалимская А.А. Кавказ на Шелковом пути. СПб., 1992.
- Кузнецов В.А. Алания в X-XIII вв. Орджоникидзе, 1971.
- Кузнецов В.А. Очерки истории алан. Владикавказ, 1992.
- Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. М., 2001.
- Кузнецов В.А. Хасаутское городище и могильники и Мисимианский маршрут Великого шелкового пути//Вестник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. 2015. № 4 (27).
- Белинский А.Б., Габуев Т.А., Савенко С.Н. Исследование скальных могильников Хасаутский 1 и 3 в 2015 г.//Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа: материалы междунар. конф. «XXIX Крупновские чтения». Грозный, 2016.
- Минаева Т.М. История алан Верхнего Прикубанья по археологическим данным. Ставрополь, 1971. С. 103.
- Иванюков И., Ковалевский М. Указ. соч. С. 102.
- Кузнецов В.А. Северное Приэльбрусье.. С. 19-20.
- Нарожный Е.И. Пещеры Бамутского и Келийского могильников (Чечня и Ингушетия)//Из практики кавказоведческих изысканий. Армавир; Грозный, 1996.
- Савенко С.Н. Из истории исследования раннесредневековых скальных погребений в бассейнах рек Кумы, Малки и Баксана//Вестник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. 2015. № 1 (24).
- Керефов Б.М., Звягин В.Н. Новый раннесредневековый скальный (?) могильник в высокогорной долине реки Харабаз в Кабардино-Балкарии//Материал по изучению историко-культурного наследия. М., 2008. Вып. VIII (Крупновские чтения 1971-2006).
- Садыков Т.Р. Поселенческий комплекс в составе памятника Харбас I//Бюллетень Института истории материальной культуры РАН. СПб., 2011. № 2.
- материалы группы Средневековой Северо-Кавказской экспедиции Государственного исторического музея (http://vk.com/clubsskae).
- Садыков Т.Р. Потревоженные, но неограбленные погребения раннесредневекового могильника Харбас-1 в Приэльбрусье//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда. Казань, 2014. Т. II. С. 410-413.
- Охранно-спасательные раскопки в границах могильника Харбас 1 в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики . URL: http://www.rescuearcheo.ru/Harbas_1.htm (дата обращения: 28.08.2016).
- Коробов Д.С. Этапы заселения Кисловодской котловины по данным археологии//Краткие сообщения Института археологии. М., 2013. Вып. 228.
- Коробов Д.С. К вопросу о скальных захоронениях Кисловодской котловины//Проблемы древней истории и культуры Северного Кавказа. М., 2004.
- Демаков А.А. Скальные погребения в долине реки Теберды//Вопросы археологии и истории Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1991; Минаева Т.М. Указ. соч.
- Кузнецов В.А. Нижний Архыз в X-XII вв. К истории средневековых городов Северного Кавказа. Ставрополь, 1993; Тихонов Н.А., Орфинская О.В. Могильники в районе Нижне-Архызского городища//Историко-археологический альманах. Армавир; М., 1997. Вып. 3.
- Иерусалимская А.А. Мощевая Балка. Необычный археологический памятник на Северокавказском «Шелковом пути». СПб., 2012.
- Ковалевская В.Б. Кавказ и аланы. Века и народы. М., 1984.
- Рудницкий Р.Р. О зороастризме у алан в VII-IX вв.//Историко-археологический альманах. Армавир; М., 2001. Вып. 7.
- Малахов С.Н. Материалы к церковной археологии Алании//Из истории и культуры народов Северного Кавказа. Ставрополь, 2010. Вып. 2.
- Фоменко В.А. Северо-Западный и Центральный Кавказ в древности и средневековье (вторая половина II тыс. до н. э. -середина II тыс. н. э.): обзор актуальных вопросов социально-экономического и культурно-этнического развития. Нальчик, 2015.