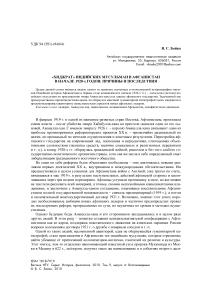«Хиджрат» индийских мусульман в Афганистан в начале 1920-х годов: причины и последствия
Автор: Бойко Владимир Сергеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
Целью данной статьи является анализ одного из наименее изученных в отечественной историографии эпизодов Новейшей истории Афганистана в первые годы независимости (начало 1920-х гг.) - хиджрата (исхода) индийских мусульман по приглашению эмира Аманулла-хана под защиту афганского государства. Задуманный как преимущественно пропагандистская акция, он обернулся массовой гуманитарной катастрофой тысяч мигрантов и продемонстрировал авантюризм панисламистских проектов новых афганских лидеров.
Хиджрат, аманулла-хан, панисламизм, независимый афганистан, халифатистское движение
Короткий адрес: https://sciup.org/14737285
IDR: 14737285 | УДК: 94
Текст научной статьи «Хиджрат» индийских мусульман в Афганистан в начале 1920-х годов: причины и последствия
В феврале 1919 г. в одной из наименее развитых стран Востока, Афганистане, произошла смена власти - после убийства эмира Хабибулла-хана на престоле оказался один из его сыновей, Аманулла-хан. С именем эмира (с 1926 г. - короля) Аманулла-хана связывают один из наиболее противоречивых реформаторских проектов XX в. - чрезвычайно радикальный по целям, но провальный по методам осуществления и конечным результатам. Перестройка афганского государства на современный лад, поспешная и верхушечная, отягощенная объективными сложностями (нехватка средств, наличие социальных и религиозных пережитков и т. д.), к концу 1920-х гг. обернулась гражданской войной, расколом и без того слабого государственно-политического организма страны, хотя она же несла в себе определенный опыт либерализации традиционного восточного общества.
Но сами по себе реформы были объективно необходимы - они диктовались новыми реалиями первых десятилетий XX в., внутренними и международными обстоятельствами. Им предшествовала в целом успешная для Афганистана война с Англией, уже третья по счету, начавшаяся в мае 1919 г. в результате наступательных действий афганской стороны и закончившаяся через три недели перемирием. Афганцы уступали противнику в силе, но англичане не захотели рисковать всей империей, а точнее, своими неспокойными южноазиатскими владениями, и заключили с Аманулла-ханом соглашение, означавшее восстановление Афганистаном полной государственной независимости - сначала прелиминарный (1919 г.), а потом и окончательный межгосударственный договор 1921 г. Возможно, именно этот успех породил необоснованные амбиции новых афганских лидеров и частично предопределил провал их последующих реформ, прогрессивных по сути, но неудачных по срокам и методам осуществления.
Однако будущие беды Аманулла-хана и его сторонников закладывались и в целом ряде других акций. В этом ряду - попытки создания центральноазиатской конфедерации с Афганистаном как ее ядром, поддержка повстанческого движения на азиатских окраинах России вопреки положениям договора 1921 г. о дружбе с северным соседом и т. п.
Одной из таких акций, несомненной авантюрой, едва не обернувшейся гуманитарной катастрофой, стало приглашение в Афганистан тех индийских мусульман, которые стремились найти убежище от притеснений колонизаторов-англичан, гонителей их религии и культуры. Этот эпизод, чем-то отдаленно напоминающий известный уход пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 г., хиджрат , получил такое же наименование и в событиях второго деся-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 4: Востоковедение © В. С. Бойко, 2010
тилетия XX в. Он был частью массового халифатистского движения в защиту ислама – реакции на разгром Османской империи, резкое падение роли, а потом и вовсе низложение турецкого султана, являвшегося одновременно и халифом – духовным главой всех правоверных мусульман.
Кроме того, в ряде регионов мусульманского мира и анклавов, к нему тяготеющих, хали-фатистское движение имело и свой внутренний импульс. В Британской Индии таким импульсом стала имперская политика британских властей, игнорирующих изменения, произошедшие в мире в результате Первой мировой войны, ту огромную роль, которую многонациональное и поликонфессиональное население южноазиатского субконтинента сыграло в этой войне. Халифатистское движение (на языке хиндустани – хилаф ) возникло в 1919 г., его участники ставили своей целью не только защиту халифа, но и борьбу против британского правления в Индии.
Афганский фактор сыграл ключевую роль в событиях, вызвавших хиджрат индийских мусульман. Как полагали определенные круги Британской Индии (индусские националисты, колониальные власти), и исторические факты, и ситуация, возникшая в связи с переходом трона в Афганистане к Аманулла-хану и объявлением им полной независимости страны в конце февраля 1919 г., свидетельствовали о наличии афганской угрозы западному приграничью Британской империи – областям, населенным пуштунами и белуджами. Афганскими националистами под вопрос ставилась законность и правомерность линии Дюранда – условной, искусственно разделившей пуштунский этнос границы между Афганистаном и Британской Индией, установленной по соглашению 1893 г. между эмиром Абдуррахманом и британской колониальной администрацией. Хотя Аманулла-хан и его правительство были отягощены внутренними проблемами страны, они не упускали из виду фактически независимые пуштунские племена по индийскую сторону границы, предоставляя им субсидии, агитируя за присоединение к Афганистану и т. д.
Особой активностью в этом вопросе отличался афганский военный министр Надир-хан, организовавший в начале 1920 г. шумную кампанию за воссоединение всех пуштунских племен и урегулирование конфликтов между ними. Как справедливо отмечает германский востоковед и дипломат Д. Ритц, «нетрудно увидеть, что за этими соображениями просматривалась жесткая реальная политика. Афганистан, как и другие игроки на региональной арене, рассчитывал заполнить вакуум власти, который возник в связи с распадом Османской империи» [Reetz, 1995. P. 31]. Однако режим Аманулла-хана, инициируя (а иногда и просто имитируя) военные приготовления в приграничных с Британской Индией областях, действовал скорее из опасений быть захваченным врасплох британской агрессией, вероятно, готовя впрок «полосу лояльности» в зоне независимых племен. Серьезным ударом по его престижу стало вынужденное согласие признать статус-кво «линии Дюранда» в договоре 1921 г. с англичанами, т. е. фактически отказ вести открытую борьбу за воссоединение пуштунских земель в рамках афганского государства, – своеобразная, вызванная геополитическими обстоятельствами и слабостью Афганистана плата за независимость.
Помимо идеи пуштунского единства, новый афганский режим энергично обозначил и свои панисламские амбиции, ориентированные не только на север – центрально-азиатские окраины бывшей Российской империи, но и на восток, т. е. территории Британской Индии, населенные приверженцами ислама. Ислам в Индии к концу XIX – началу XX в. оказался в положении веры меньшинства, и политика англичан, а также любые действия общественных движений рассматривались мусульманами с точки зрения религии. Причем политически преобладало течение ортодоксального толка, сверявшее свои взгляды с позицией Деобанда – религиозной школы на севере Индии, отрицавшей иджтихад (новое толкование) основных догматов ислама. Воинственность, панисламские и даже панпуштунские идеи Аманулла-хана находили благожелательный отклик и поддержку в среде радикально и в то же время ортодоксально настроенного мусульманского населения и духовенства Северо-Западной пограничной провинции Индии. В этой среде наибольшей активностью выделялись несколько мулл – Хаджи Турангзаи, Сандаки Баба и Хаджи Абдул Раззак из Вазиристана [Haroon, 2007.
P. 39, 41, 46–47, 53–55] 1. Они действовали в основном индивидуально, но иногда координировали свои акции с местными фанатиками, или, как их называли уже тогда, моджахедами (борцами за веру) [Reetz, 1995. P. 31] 2.
Помимо движений религиозно-политического протеста, в афгано-индийском приграничье активизировались и пуштунские националисты. Самым авторитетным в их среде в 1920-е гг. стал Абдул Гаффар-хан, создавший организацию «Пахтун джирга» («Пуштунская конференция», или «Пуштунская лига»). В 1929 г. были сформированы добровольческие боевые отряды пуштунов – «Худаи хидматгаран» («Слуги господни»), которых стали называть «краснорубашечниками». Быстро ставшая популярной организация Абдул Гаффар-хана использовала ненасильственные средства борьбы за независимость и развитие пуштунского этноса (организация школ, выпуск общественно-политического журнала «Пуштун» и др.) [Wiqar, 1999; 2007] 3, но и он, и его сторонники с первых шагов своей деятельности демонстрировали солидарность с лидерами Афганистана.
Совокупность указанных обстоятельств и подтолкнула Аманулла-хана развернуть знамя борьбы в поддержку мусульман во всем мире, прежде всего в Турции и Британской Индии. Такие лозунги высказывались в его присутствии на молитве в кабульской соборной мечети уже в декабре 1919 г., а зимой-весной 1920 г. они приобрели особое и весьма конкретное звучание: в феврале, в годовщину убийства своего отца, Аманулла-хан сделал широкий жест – он выразил готовность принять у себя в стране тех индийских мусульман, которые больше не могли вынести тягот британского колониального правления [Reetz, 1995. P. 33] 4.
В апреле 1920 г. его речь была опубликована многими индийскими газетами, а ее положения повторялись в мечетях во время молитв. Маулана Абу Калам Азад был одним из первых религиозных авторитетов Британской Индии, призвавших своих единоверцев к хиджрату. В июле 1920 г. он издал специальную фетву о хиджрате, ему следовал мулла Абдул Бари, но оба они рассматривали эмиграцию индийцев скорее как демонстративное политическое действие части элиты, а не как массовый исход населения, в том числе тех, кто принадлежал к средним и низшим слоям англо-индийского общества. Но чаяния трудовых слоев Индии, надеявшихся наиболее полно удовлетворить свои религиозные потребности в результате хид-жрата, с одной стороны, и обещания афганских властей создать беженцам условия для достойной жизни – с другой, дали неожиданный для всех эффект – неконтролируемый массовый исход мусульман в Афганистан. Находившийся в тот момент в Москве индийский революционер-эмигрант М. Н. Рой прямо назвал хиджрат 1920 г. «религиозным панисламистским движением» [Roy’s Memoirs, 1964. P. 419–420] и, предвидя его неудачу, намеревался вербовать мухаджиров в свою «армию освобождения Индии».
В принципе, местами для хиджрата могли также быть Анатолия или бывшие ханства Центральной Азии, но самым привлекательным для мухаджиров виделся все же Афганистан, власти которого обещали предоставить им земли, финансовую поддержку, различные льготы. В конце апреля 1920 г. состоялись первые собрания будущих мухаджиров, на которых были созданы специальные комитеты – начальная организованная форма исхода. Как сообщалось в послании одного из комитетов по хиджрату, только в Синде выразили намерение выехать в Афганистан 25 тыс. человек. Наиболее энергично действовала организация му-хаджиров в Пешаваре – центре Северо-Западной пограничной провинции Британской Индии во главе с Джан Мухаммадом, который одновременно руководил и местным халифатистским комитетом, а в общеиндийском масштабе предполагаемым лидером всей акции был Гулам Мухаммад Азиз.
Исход индийских мусульман в Афганистан происходил неравномерно: в мае 1920 г. границу в районе Хайбарского перевала пересекали группы численностью 30–50 человек, а в июле – целые караваны в несколько сотен и даже тысяч эмигрантов. Афганское правительство намеревалось расселять их в специально отведенных местах – самоуправляющихся, экономически независимых колониях. Первым центром приема эмигрантов был определен Джабаль ус-Серадж.
Большинство мухаджиров оказались выходцами из беднейших слоев, даже не способными заплатить при пересечении афганской границы специальный взнос в 50 рупий – это делали за них более состоятельные земляки. Но на наиболее активной стадии хиджрата, в июле-августе 1920 г., в Афганистан перебирались и представители имущих классов – заминдары (землевладельцы) из районов Хаштнагара, Юсуфзаи и Хазара, было немало случаев отставок и отъезда государственных служащих. Точную численность эмигрантов установить невозможно – различные источники оперируют данными о 30–50 тыс. человек. В этой массе попадались и крупные фигуры – наиболее известным позднее стал выходец из селения Утманзаи Пешаварской области Абдул Гаффар Хан (Бача Хан), легендарный пуштунский националист, организатор движения «краснорубашечников» («Худаи хидматгаран») и пропагандист ненасильственного сопротивления колониализму.
Правительство Аманулла-хана слишком поздно осознало последствия своей пропаганды хиджрата – лишь в августе 1920 г. оно издало специальный фирман, регулирующий дальнейшую эмиграцию мусульман из Британской Индии. Вероятно, из-за экономических трудностей из эмигрантов предполагалось создать несколько воинских соединений (по слухам, целую армию из 900 тыс. человек!), командный состав которых должен был состоять из сыновей мухаджирской знати, прошедших специальную подготовку в военной школе 5.
Мухаджиры должны были принимать афганское гражданство, те из них, которые претендовали на получение земельных наделов, направлялись в Каттаган, где предполагалось создать вторую колонию. Однако все усилия властей и эмира, выделившего для приема эмигрантов собственные средства и землю [Moshad, 1995. P. 129], оказались недостаточными. Попытки ввести в действие ограничения по хиджрату в середине августа привели к серьезным беспорядкам на афгано-индийской границе и ослаблению миграционного потока, а потом и реэмиграции – возвращенцев не страшили даже угрозы мулл, что им отрубят уши, а их женщины будут обесчещены.
Следует отметить, что многие эмигранты быстро разочаровались в своем выборе – различного рода накладки случались уже в самом начале кампании: афганские власти производили аресты среди вновь прибывших, подозревая их в шпионаже, всячески ограничивали их передвижение, в том числе выезд в Анатолию для «дальнего» хиджрата. Не всех переселен- цев устраивал афганский климат – например, пуштуны из племени масуд жаловались на непривычную жару в районе Хоста. Эмигранты часто болели и умирали – их могилы вдоль дороги от афгано-индийской границы до Кабула стали мрачными символами сомнительного проекта «Хиджрат».
Показательно, что общее ухудшение социально-экономической обстановки в Афганистане в связи с хиджратом подвигло наиболее предприимчивых афганцев совершить «контр-хиджрат» в Британскую Индию – так поступили, например, некоторые обитатели Хоста, аргументировавшие индо-британским властям свои намерения приливом мухаджиров, вызвавшим дефицит продовольствия и пр. [Moshad, 1995. P. 70]. Их просьбы не были удовлетворены – напротив, англо-индийские власти начало хиджрата восприняли как очищение приграничной провинции от недовольных и одновременно – непроизвольный удар по экономике Афганистана [Wiqar, 1999. P. 20]. В дальнейшем в Пешаваре и Дели больше были озабочены реэмиграцией собственных, хотя теперь уже и бывших, граждан. К концу 1920 г. все те, кто хотел и мог возвратиться, сделали это, хотя часть эмигрантов осела в Афганистане, некоторые перебрались в азиатскую часть России (Бухару, Ташкент) и лишь очень немногие – в Анатолию, где, очевидно, могли, наконец, убедиться, что их главное дело – защита султана-халифа, уже потеряло всякий смысл.
Афганские власти, потерпев неудачу в организации приема индийских мухаджиров, все более ужесточали отношение к ним. Так, весной 1921 г. большая группа эмигрантов, направлявшихся в Россию, была арестована в Мазари-Шарифе и отправлена в Ханабад. По данным советской агентуры, летом того же года всех арестованных должны были отправить обратно в Кабул. Сто пятьдесят индийских эмигрантов были арестованы в Герате, их пытался освободить российский консул, но его хлопоты оказались безуспешными. Однако и доля тех эмигрантов, кто прорвался в Россию, была незавидной – они материально бедствовали, и к тому же оказывались предметом нездорового, основанного на амбициях, соперничества советских властей и афганских дипломатических представителей: сотрудники афганского консульства в Бухаре агитировали их возвратиться назад, фактически незаконно принимая в афганское подданство 6.
Хиджрат потерпел провал, который имел серьезные политические и международные последствия, особенно для Афганистана и его нового режима, как, впрочем, и для Великобритании. События 1920 г., связанные с переселением десятков тысяч индийских мусульман в «мир ислама» («дар-уль-ислам»), каковым представлял себя и свою страну режим Аманулла-хана, лишний раз продемонстрировали англичанам, сколь уязвима Северо-Западная пограничная провинция Британской Индии для маневров внешних сил и – одновременно – сколь сложна она для управления и сохранения внутренней стабильности. Провал хиджрата ограничил панисламские устремления Аманулла-хана, хотя и не избавил его от желания использовать и впредь конфликтный потенциал националистических и религиозно-политических движений Британской Индии и Центральной Азии. Этот эпизод повлиял также и на настроения пуштунского этноса и его традиционных лидеров по обе стороны афгано-индийской границы – афганский монарх и афганское государство в целом уже не рассматривались приграничными пуштунами как сила, способная их защитить, хотя и в дальнейшем афганский государственно-политический фактор использовался этими движениями в борьбе за свои интересы.
Эпизод с хиджратом начала 1920-х гг. не стал единственным и тем более последним в Новейшей истории Афганистана – в тот же период его северную границу пересекли более 200 тысяч беженцев из соседних областей советизировавшейся Средней Азии (их вооруженные формирования многими именовались как басмачество ), а в 1990-е гг. тысячи жителей ставшего независимым Таджикистана, спасавшиеся от гражданской войны на их родине. Еще чаще к этому средству были вынуждены прибегать сами афганцы – начиная с серии переворотов 1970-х – 1990-х гг. и по нынешний день несколько миллионов выходцев из этой страны покинули ее во имя спасения своих жизней, что лишь укоренило в их сознании идею убежища среди единоверцев.
«HIJRAT» OF INDIAN MUSLIMS TO AFGHANISTAN IN EARLY 1920S: THE ORIGINS AND CONSEQUENCES