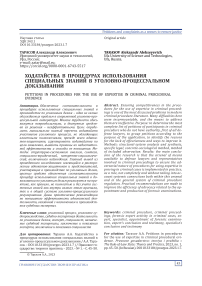Ходатайства в процедурах использования специальных знаний в уголовно-процессуальном доказывании
Автор: Тарасов Александр Алексеевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Ходатайства и жалобы как средство обеспечения правосудия
Статья в выпуске: 1 (71), 2023 года.
Бесплатный доступ
Обеспечение состязательности в процедурах использования специальных знаний в производстве по уголовным делам – одна из самых обсуждаемых проблем в современной уголовно-процессуальной литературе. Многие трудности здесь кажутся непреодолимыми, а доступные средства их решения – неэффективными. Цель: определить максимально полный перечень ходатайств участников уголовного процесса, не обладающих властными полномочиями, прежде всего адвокатов-защитников, сгруппировать ходатайства по цели заявления, выявить причины их недостаточной эффективности и способы ее повышения. Методы: структурно-системного анализа, синтеза, специально-юридический, конкретно-социологический, включенного наблюдения. Главный вывод из проведенного исследования: имеющийся в распоряжении адвокатов-защитников и представителей, участвующих в производстве по уголовным делам, арсенал средств обеспечения состязательности процедур использования специальных знаний в доказывании по уголовным делам реализуется на практике, как правило, не полностью и без учета системных связей как внутри самого этого арсенала, так и в общей системе уголовно-процессуального регулирования. Даны практические рекомендации по повышению эффективности адвокатской деятельности, связанной с назначением и производством судебных экспертиз.
Уголовный процесс, уголовное судопроизводство, судебно-экспертная деятельность по уголовным делам, эксперт, специалист, назначение судебной экспертизы, заключение и показания эксперта, заключение и показания специалиста
Короткий адрес: https://sciup.org/142237247
IDR: 142237247 | УДК: 343.1 | DOI: 10.33184/pravgos-2023.1.7
Текст научной статьи Ходатайства в процедурах использования специальных знаний в уголовно-процессуальном доказывании
Дискуссии по поводу состязательности процедур использования специальных знаний в досудебном производстве по уголовным делам
Основная обсуждаемая в литературе и на практике идея – очевидное неравенство сторон, вплоть до абсолютной монополии стороны обвинения, в процедурах назначения и производства экспертиз в совокупности со столь же очевидной монополией государственных экспертных учреждений в сравнении с негосударственными. Как способ компенсации неравенства между властвующими и иными субъектами уголовно-процессуальных отношений с момента принятия УПК РФ 2001 г. в литературе и на практике стало рассматриваться участие специалиста.
Специалист – это, по логике действующего уголовно-процессуального закона, носитель специальных знаний, как и эксперт, но не производящий судебную экспертизу, назначаемую в порядке гл. 27 УПК РФ, а привлекаемый к производству по уголовному делу в той или иной из прямо предусмотренных в законе или не противоречащих ему правовых форм. Перестав быть «научным помощником следователя», что по УПК РСФСР 1960 г. считалось общепринятым [1, с. 74], специалист формально стал доступен для привлечения в процесс и для лиц, не обладающих властными полномочиями. Попытки разграничить статусы эксперта и специалиста по каким-то другим критериям, кроме процессуального (назначена или не назначена экспертиза), в литературе встречались и встречаются, но сколько-нибудь убедительного итога не имеют, тем более что экспертом и специалистом по одному делу может выступать один и тот же человек. Для судебных медиков такой вариант весьма широко распространен, если не сказать, что является правилом.
Единственно доступные средства проявления процессуальной активности лиц, не наделенных властными полномочиями, в любых процедурах, в том числе и связанных с использованием специальных знаний в уголовном процессе, – это их ходатайства и жалобы. Вопрос о самостоятельном собирании доказательств защитником (ч. 3 ст. 86 УПК РФ), о так называемом параллельном адвокатском расследовании и в его контексте вопрос о гипотетическом «праве защитника назначать судебные экспертизы» здесь сознательно опускаем как предмет самостоятельных научных дискуссий. Сошлемся лишь на поддерживаемую нами позицию, согласно которой в континентально-европейской системе уголовного процесса (к ней относится и российский уголовный процесс) такой вариант процессуального равенства сторон в досудебном производстве невозможен [2, с. 146–149; 3, с. 103–104]. Ходатайства и жалобы – это вовсе не просьбы, а требования, которые «запускают в действие публичные полномочия процессуальных органов» [4, с. 69, 68], однако результат их рассмотрения не может не зависеть от усмотрения следователя (здесь и далее имеется в виду также и дознаватель), в производстве которого находится уголовное дело.
В литературе высказывались предложения ограничить свободу властного усмотрения в отношении ходатайств, нацеленных на получение новых доказательств, сделать их все [5, с. 142] или как минимум какую-то их часть обязательными для удовлетворения следователем. Возможно, какую-то часть проблем можно решить и так. Например, проблему приобщения к делу любых представленных защитником материалов [6, с. 28] – документов и предметов, имеющих отношение к данному делу. Однако думается, что, например, ходатайств о назначении экспертиз это касается в наименьшей степени.
Приведем максимально полный перечень ходатайств невластвующих участников производства по уголовному делу, главным образом – адвокатов-защитников, которые потенциально могут быть заявлены в связи с использованием специальных знаний. Схематично сгруппируем эти ходатайства по моменту их заявления и соответствующей этому моменту процессуальной цели, которую может ставить ходатай перед собой, своим доверителем и адресатом ходатайства.
-
1. Ходатайство о привлечении специалиста к участию в следственных действиях.
-
2. Ходатайство о назначении судебной экспертизы.
-
3. Ходатайства, заявляемые при ознакомлении с постановлением следователя о назначении экспертизы: 1) об отводе эксперта (всех экспертов – членов комиссии) или об изменении экспертного учреждения, которому поручается производство экспертизы; 2) о постановке дополнительных вопросов или об изменении формулировок вопросов, поставленных следователем; 3) о предоставлении в распоряжение экспертов дополнительных объектов для исследования; 4) о предоставлении возможности личного присутствия при производстве экспертных исследований на основании п. 5 ст. 198 УПК РФ.
-
4. Ходатайство о приобщении к уголовному делу заключения специалиста.
-
5. Ходатайство о допросе специалиста: а) на предварительном расследовании и б) в суде.
-
6. Ходатайство о назначении дополнительной или повторной экспертизы: а) на предварительном расследовании и б) в суде.
-
7. Ходатайство о признании заключения эксперта недопустимым доказательством.
Каждая из названных групп ходатайств заслуживает подробной характеристики, объем которой мог бы претендовать на отдельную статью. Здесь лишь обратим внимание на весьма заметную разницу в частоте использования названных ходатайств в адвокатской практике. В самой общей форме есть основания утверждать, что адвокатская пассивность в официальных процедурах назначения экспертиз сочетается с бросающейся в глаза активностью в стремлении оспорить уже состоявшиеся заключения экспертов с помощью заключений и показаний специалистов. Считаем возможным настаивать на заведомой процедурной ущербности заключения специалиста в сравнении с заключением эксперта [7, с. 265] и на необходимости более активного участия адвокатов в судебно-экспертной деятельности по уголовным делам.
Причины адвокатской пассивности в первом из названных типов процедур кажутся очевидными: властные полномочия стороны обвинения полностью определяют и выбор экспертных учреждений и экспертов, и содержание вопросов, ставящихся на их разрешение. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении «О судебной экспертизе по уголовным делам» вопреки требованиям уголовно-процессуального закона констатировал неравенство государственных и негосударственных экспертов и экспертных учреждений (п. 3)1. Фактическая монополия государственных экспертных учреждений, обоснованно критикуемая в экспертном и адвокатском сообществе уже давно, разрушается самой жизнью: государственные экспертные учреждения не могут обеспечить потребности современной практики в необходимом объеме экспертных исследований, что предопределило не такое уж редкое обращение органов расследования к негосударственным экспертам. Однако и последняя редакция упомянутого постановления (от 29 июня 2021 г. № 22) сохранила указание на приоритет государственных судебно-экспертных учреждений.
Для проявления адвокатской активности в назначении и производстве судебных экспертиз имеются и сугубо процедурные препятствия: а) формальное отсутствие статусов участников процесса, наделенных правом заявлять ходатайства до возбуждения уголовного дела, когда с апреля 2013 г. стало назначаться значительное количество судебных экспертиз; б) по возбужденному уголовному делу извещение о производстве экспертизы после ее производства при ознакомлении с готовым заключением эксперта или даже с материалами оконченного следственного производства. Обязанность следователя и суда ознакомить заинтересованных участников процесса с постановлением о назначении экспертизы до ее производства прямо оговорена в п. 9 указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ, однако практика, противоречащая этой основанной на законе рекомендации, и в настоящее время достаточно распространена. Что бы ни было истинной причиной такого отстранения адвокатов от полноценного участия в процедурах назначения и производства судебных экспертиз, считать эту практику нормой нельзя. Однако здесь важно отметить, что и практику заявления адвокатами ходатайств о признании заключений экспертов недопустимыми доказательствами на том основании, что заинтересованные участники процесса, круг которых, при желании, определить не так уж трудно [8, с. 130], были отстранены от процедур назначения этих экспертиз, тоже выявить не удалось.
Внешняя ясность описанной ситуации и названных препятствий для состязательности порождает столь же понятный стереотип профессионального правосознания следователей: они не склонны воспринимать всерьез адвокатов как участников этих процедур. И речь здесь идет не только о защитниках подозреваемых и обвиняемых, но и о представителях участников процесса, выступающих на одной стороне с должностными лицами государства – потерпевших. Любые проявления адвокатской активности при ознакомлении с постановлениями о назначении экспертиз, как правило, почти инстинктивно воспринимаются следователями как досадная помеха в работе, как противодействие расследованию, как попытка затянуть дело. Реальность сегодня говорит сама за себя: по данным многих эмпирических исследований, лишь в ничтожно малой доле случаев ознакомления с постановлениями о назначении экспертиз (от 1,5 до 3 %) адвокаты заявляли какие-либо ходатайства, а удовлетворялись лишь считанные единицы из них. Зато случаи невозможности заявления каких-либо ходатайств из-за неопределенности статусов участников процессуальной деятельности либо из-за несвоевременности ознакомления с этим постановлением отметили в своей практике все 53 опрошенных нами адвоката. Если бы не собственный прямо противоположный авторский адвокатский опыт заявления ходатайств, связанных с назначением экспертиз в досудебном производстве по уголовным делам, проще всего было бы считать, что такие ходатайства заявлять бесполезно.
Рассмотрим подробнее ходатайства, связанные с назначением и производством экспертиз.
Ходатайство о назначении судебной экспертизы
Такое ходатайство имеет хоть какой-то шанс быть удовлетворенным только в том случае, если оно представляет собой своего рода проект постановления о назначении экспертизы самого следователя (то же касается и аналогичного ходатайства, обращенного к суду). Сказанное означает наличие в ходатайстве всех сведений, необходимых для назначения экспертизы: 1) точное и объяснимое любому заинтересованному лицу наименование сферы специальных знаний, в которых должны быть проведены экспертные исследования; 2) точное обозначение юридически значимых обстоятельств данного дела, для установления которых необходимы специальные знания в указанной сфере; 3) формулировки вопросов, которые предлагается поставить на разрешение экспертов, из которых видна связь и с обстоятельствами данного дела, и с обозначенной сферой специальных знаний; 4) перечень объектов, необходимых для передачи в распоряжение экспертов, с возможно более точным указанием способа их получения (предоставления самим ходатаем, истребования у конкретных лиц, изъятия из этого же уголовного дела и т. п.); 5) указание на экспертное учреждение или конкретных экспертов, которым предполагается поручить это исследование, с уточнением в случае необходимости о комиссионном или комплексном характере исследований.
Обозначенные здесь ходатайства заявляются реже других. В ходатайстве, например, нет необходимости в случаях обязательного назначения экспертизы, законодательный перечень которых (ст. 196 УПК РФ) трудно назвать исключением из правила в силу их распространенности. Ходатайства о назначении экспертиз редко заявляются еще и по причине неуверенности потенциального ходатая в доказательственном результате экспертного исследования, который может ослабить позиции защиты в будущем, а как-то «удалить» полученное заключение эксперта из числа доказательств по данному уголовному делу возможности уже не будет. Нельзя не напомнить и о том, что в отношении ходатайств о назначении экспертизы следователь по определению не может быть лишен права на мотивированное отклонение.
При изучении практики заявления адвокатами ходатайств о назначении экспертиз обнаруживается достаточно заметный удельный вес объективно необоснованных ходатайств – дублирующих уже проведенные экспертизы, но не названных при этом ни повторными, ни дополнительными, не рассчитанных на научно-технические возможности в соответствующих сферах специальных знаний (например, нацеленных на установление минимальной разницы во времени исполнения надписей на документах – до месяца или даже двух недель – при технической возможности установления разницы никак не менее года), с неопределенной сферой специальных знаний (например, некой «судоводительской» с целью установления возможности столкновения маломерных судов, движущихся с определенной скоростью в определенных направлениях), а иногда и вовсе фантастических – «астрологических», «эзотерических», разного рода «психофизиологических», в том числе и с использованием детектора лжи или даже гипноза и т. п. Мотивы для заявления адвокатами таких ходатайств могут быть какими угодно, и автор далек от негативных оценок любых проявлений адвокатской активности – адвокатская защита помимо прямого своего назначения играет и важную психотерапевтическую роль в отношении доверителя, для которого важно понимать, что в его интересах делается все возможное. И тот, казалось бы, непреложный факт, что, дорожа своей профессиональной репутацией, адвокат, по логике, не должен бы совершать заведомо непрофессиональных действий, в реальной практике многих адвокатов существенно корректируется некоторыми ситуативно более значимыми обстоятельствами. Среди таковых и необходимость «сохранить этого клиента», и стремление не допустить утраты доверительного контакта с ним или нервного срыва клиента и отказа его от активного сопротивления пусть даже несправедливому обвинению и т. д. Нельзя сказать, что такая схема взаимодействия адвоката с доверителем является правилом, но, во-первых, она не исключена, а во-вторых, отдельные ее элементы в своей практике встречало большинство адвокатов.
В ч. 2 ст. 159 УПК РФ обязанность следователя удовлетворить ходатайство стороны защиты о назначении судебной экспертизы обусловлена только значимостью для дела обстоятельств, на которые эта экспертиза направлена. Именно в отношении судебной экспертизы эту оговорку убирать из закона нецелесообразно, однако и она касается не единственной причины для отказа в удовлетворении такого ходатайства. Недоказанность научно-технической возможности выявления каких-то обстоятельств с помощью экспертных исследований либо даже доказанное отсутствие такой возможности вполне может быть объяснимым основанием для отклонения ходатайства.
Ходатайства, заявляемые при ознакомлении с постановлением следователя о назначении экспертизы
Здесь необходима весьма характерная оговорка «если это происходит до начала самих экспертных исследований», поскольку, как уже отмечалось, случаи более позднего ознакомления с постановлением о назначении экспертизы не так уж редки. Речь идет о целой серии ходатайств, которые могут быть заявлены при производстве процессуального действия, специально для этого предназначенного (ч. 3 ст. 195 УПК РФ), но на практике нередко воспринимаемого как обременительная формальность, как возможность получить подпись на протоколе об ознакомлении, причем нередко обеими сторонами.
По совокупному смыслу ч. 3 ст. 195 и ч. 1 ст. 11 УПК РФ предъявление постановления о назначении судебной экспертизы – это не только процессуальная форма разъяснения прав участников процесса, но и способ обеспечения их осуществления. Прежде всего, это касается прав стороны защиты, которая приобретает возможность заявления следующих ходатайств: 1) об отводе эксперта (всех или части экспертов – членов комиссии) или об изменении экспертного учреждения, которому поручается производство экспертизы; 2) о постановке дополнительных вопросов или об изменении формулировок вопросов, поставленных следователем; 3) о предоставлении в распоряжение экспертов дополнительных объектов для исследования; 4) о предоставлении возможности личного присутствия при производстве экспертных исследований на основании п. 5 ст. 198 УПК РФ (на эту статью есть специальная ссылка в ч. 3 ст. 195 УПК РФ).
Для заявления части названных ходатайств на момент ознакомления с постановлением о назначении экспертизы существуют серьезные объективные препятствия, даже если не считать таковым отсутствие специальных знаний по профилю назначаемой экспертизы у адвоката, готового эти ходатайства заявить. Отсутствие специальных знаний лучше всего компенсируется наличием их у подзащитного, что автор не раз использовал при заявлении перечисленных и некоторых иных ходатайств в собственной адвокатской практике, осуществляя защиту врачей от уголовного преследования. Отсутствие специальных знаний в той или иной мере может быть восполнено либо предварительной консультацией со специалистом того же профиля, либо просто самообразованием и многократным участием в подобных уголовных или гражданских делах.
Формально не существует нормативноправовых препятствий и для приглашения специалиста по профилю назначаемой экспертизы для участия в ознакомлении с постановлением о ее назначении. Однако при изучении практики не удалось выявить ни одного такого случая. Вероятно, здесь предполагаются организационные и иные трудности при сомнительной ценности ожидаемого результата. Степени убедительности заявленных при участии специалиста ходатайств для должностного лица такое участие не повысит, а расходы на его привлечение, скорее всего, возрастут. Другие препятствия для заявления ходатайств, то есть прямо не связанные с отсутствием у ходатая специальных знаний соответствующего профиля, не менее ощутимы. Невозможно заявить отвод эксперту, когда никто, в том числе и сам следователь, не знает (как минимум формально), кому именно из названного в постановлении экспертного учреждения будет поручена эта экспертиза; невозможно присутствовать при производстве экспертных исследований, если не знать, где и когда именно они будут проводиться. Заметим, что самый простой вариант адвокатской реакции на эти препятствия – подписать протокол об ознакомлении с постановлением, внушив и себе, и доверителю, что ничего другого в данный момент сделать нельзя.
Эти и другие препятствия для состязательности в процедурах назначения судебных экспертиз достаточно подробно анализировались в литературе, равно как и вполне доступные способы их преодоления [9, с. 78–95]. Справедливости ради необходимо подчеркнуть, что и следователи, и адвокаты-ходатаи и заявляемые ими ходатайства настолько разнятся между собой, что любое категоричное утверждение типа «знаем мы, как следователи относятся к адвокатским ходатайствам!» в исследуемом контексте будет смысловой передержкой. Однако, увы, общая картина на протяжении многих десятилетий остается прежней: судебно-экспертная деятельность – это прерогатива государственных органов, заключения специалистов – удел адвокатов [10]. Все к этому уже привыкли.
Заключение
Оптимизация адвокатской активности в процедурах использования специальных знаний, как, впрочем, и в любых других процедурах производства по уголовным делам, видится в системном толковании закона и в столь же системном использовании всего арсенала ходатайств и жалоб в их наиболее рациональном сочетании применительно к конкретной ситуации. Так, например, ходатайство о включении указанного адвокатом сведущего лица в состав экспертной комиссии, заявленное при ознакомлении с поста- новлением о назначении экспертизы, помимо прямо обозначенной в названии этого ходатайства ближайшей цели преследует как минимум еще одну – отдаленную, обращенную в гипотетическое будущее. Заявление такого ходатайства официально фиксирует отношение ходатая к указанному им носителю специальных знаний как к независимому и незаинтересованному субъекту с нейтральным по отношению к обеим сторонам статусом. Если в ходатайстве о поручении производства экспертизы указанному адвокатом эксперту органами расследования будет отказано, то в случае последующего представления адвокатом заключения этого специалиста и заявле- ния ходатайства о допросе этого специалиста в судебном заседании адвокату уместно будет в обоснование обоих своих ходатайств специально указать, что ранее им заявлялось ходатайство о привлечении данного специалиста в качестве эксперта, однако в этом было отказано следователем. Заведомая процессуальная ущербность заключения специалиста и формальная допустимость признания материальной зависимости специалиста от стороны как основание его отвода в данном случае нивелируются: адвокат пытался привлечь этого специалиста к участию в деле на равных с экспертом основаниях, однако это не удалось по не зависящим от адвоката причинам.
Список литературы Ходатайства в процедурах использования специальных знаний в уголовно-процессуальном доказывании
- Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С.А. Шейфер. – Москва: Юридическая литература, 1981. – 128 с.
- Шейфер С.А. Доказательство и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / С.А. Шейфер. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 240 с.
- Соловьев С.А. Благоприятствование защите (favor defensionis): монография / С.А. Соловьев; под ред. Л.Н. Масленниковой. – Москва: Норма, 2021. – 296 с.
- Максимов О.А. Ходатайства и жалобы как форма выражения назначения уголовного судопроизводства: монография / О.А. Максимов; под ред. В.Н. Григорьева. – Москва: Юрлитинформ, 2022. – 448 с.
- Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской власти: монография / С.А. Шейфер. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 192 с.
- Григорян В.Л. Защита как системообразующий фактор уголовного судопроизводства и принципы ее осуществления / В.Л. Григорян; под ред. В.М. Корнукова. – Саратов: Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина, 2012. – 144 с.
- Лазарева В.А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе России: учебное пособие / В.А. Лазарева; Федеральное агентство по образованию. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2007. – 303 с.
- Кальницкий В.В. Следственные действия: учебное пособие / В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин. – Омск: Омская академия МВД России, 2015. – 172 с.
- Тарасов А.А. Эксперт и специалист в уголовном процессе России: монография / А.А. Тарасов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2019. – 128 с.
- Соловьев С.А. Пределы судебного усмотрения при оценке заключения эксперта и мнения специалиста: гносеологический аспект / С.А. Соловьев // Адвокатская практика. – 2017. – № 4. – С. 17–22.