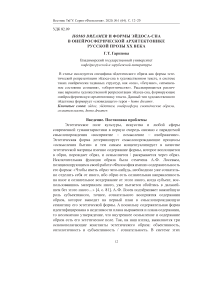Homo dreamer и формы эйдоса-сна в онейросферической архитектонике русской прозы XX века
Автор: Гарипова Гульчира Талгатовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется специфика эйдетического образа как формы эстетической репрезентации эйдоса-сна в художественном тексте, в системетаких онейрически заданных структур, как «сон», «безумие», «измененное состояние сознания», «оборотничество». Рассматриваются различные варианты художественной репрезентации эйдоса-сна, формирующие онейросферическую архитектонику текста. Данный тип художественного эйдетизма формирует «сновидящего» героя - homo dreamer.
Эйдос, эйдетизм, онегфосфера, сновидческие образы, сознательность
Короткий адрес: https://sciup.org/146281549
IDR: 146281549 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Homo dreamer и формы эйдоса-сна в онейросферической архитектонике русской прозы XX века
Эстетическое поле культуры, искусства и любой сферы современной гуманитаристики в первую очередь связано с парадигмой смыслопорождения «восприятие - осмысление - изображение». Эстетическая форма детерминирует смыслопорождающие процессы «осмысления бытия» и тем самым концептуализирует в качестве эстетической матрицы именно содержание формы, которое воплощается в образ, порождает образ, и осмысляется / раскрывается через образ. Исключительная функция образа была отмечена А. Ф. Лосевым, позиционирующим в своей работе «Философия имени» содержательность его формы: «Чтобы иметь образ чего-нибудь, необходимо уже сознательно отделять себя от иного, ибо образ есть сознательная направленность на иное и сознательное воздержание от этого иного, когда субъект, воспользовавшись материалом иного, уже пытается обойтись в дальнейшем без этого иного…» [4, с. 81]. А. Ф. Лосев подчёркивает важнейшую роль субъективного, точнее, сознательного восприятия содержания образа, которое выводит на первый план в смыслопорождающую семантику его эстетической формы. А поскольку содержательная форма идентифицирована в неделимости плана выражения и плана содержания, то несомненно утверждение, что внутреннее осмысление и содержание образа есть его эстетическое поле. Так, на наш взгляд, выявляются три основополагающие константы эстетического образа: объективность, онтологичность и субъективность / сознательность. В системе этих констант и может быть идентифицирован важнейший вопрос-коллизия о соотношении дефинирующих признаков эстетики логоса, софии и эйдоса, который А. Ф. Лосев с опорой на концепцию Плотина определяет как основополагающий критерий эстетики: «Основным понятием является понятие эйдоса, получаемое не эстетическими, но общефилософскими методами. <…> Примем понятие эйдоса как данное. Эйдос есть смысл (или сущность), наглядно явленный; это – существенный вид, существенная форма, лик, идея, физиономия бытия, его облик. Из них Плотин и исходит» [3].
Эйдетическая образность, как «содержательная форма» эстетического эйдоса, есть наиболее яркий способ отражения / выражения в художественном тексте картины мира, в которой активно интегрированы смыслы объективно-субъективной онтологичности. На наш взгляд, эстетическое поле художественного эйдетического образа сконцентрировано на пересечении сознания Бытия (чаще всего реализуемого в художественном тексте через мифологию) и сознания Человека (автора – героя – читателя), наиболее полно воплощённого в экзистенциально заданных образах онейросферического плана. Именно художественный эйдетизм позволяет раскрыть одну из наиболее концептуальных типов плотиновского эстетического эйдоса, заключённого в сфере сознания: «Этот эйдос не просто дан для кого-то, будучи сам плоскостным бытием. Но он дан еще и себе самому, для себя. Он для себя есть то, что он есть вообще. Но это значит, что ему имманентно коррелятивное ему сознание; он “мыслит”, “созерцает” себя самого. Однако эйдос есть эйдос просто и эйдос внутренний, выразительный. Следовательно, он таит в себе и сознание чисто эйдетическое, и сознание эйдетически-становящееся, гилетически-эйде-тическое» [Там же].
Художественный эйдетизм онейросферических образов
Художественный эйдетизм онейросферических образов, репрезентируемых в художественных текстах, на наш взгляд, есть эстетический способ через форму личностного сознания (образы сна, безумия, видений…) осуществить содержательную рецепцию онтологических смыслов Бытия, которые, по Юнгу, воплощаются в мифоформах бессознательного (архетипы, символы, мифологемы, мифообразы…). В свою очередь Э. Ф. Шафранская подчеркивает, что «литературе во все времена было свойственно обращение к мифу, происходило это неосознанно или сознательно, декларативно» [7, с. 8]. Именно эйдетизм позволяет формы бессознательного декларативно матрицировать в художественной сознательности, фиксируемой в метафорике эйдетического образа. Это особая форма «двойной модальности» художественного образа, которая может быть обозначена как эстетика сознания, переданная в / или через эйде- тизм художественного текста – «запечатлённое сознание» в памяти и одновременно «запечатлённая память» в сознании. Когда-то воспринятое и закреплённое в скрытой образной памяти человеческого сознания бессознательное интуитивное (сопряжённое с синкретическими бытийными смыслами) и проявленное в творческом сознании писателя (медиатора между коллективным бессознательным и открытым логосом читателя) реализуется в художественном тексте в эйдетическом образе. Формально он представляет онейросферический образ (сюжет, модель), связанный с субъективностью автора (или героя), который в процессе читательской смыслопорождающей интерпретации приобретает объективную содержательность, выводящую на онтологические смыслы. Художественный эйдетический образ функционально выполняет роль эстетического проводника философских смыслов – от памяти прошлого к реальному настоящему. На наш взгляд, в основе всех ключевых художественных неомифов (наиболее активно проявленных в фантастике, фэнтези, утопии и антиутопии) и реализован этот принцип эстетического эйдетизма – то есть перевод через эстетический образ смыслов синкретических мифов в идеалистические мироподобные неомифы современности / реальности.
Писатель, обладающий особой способностью внутреннего видения – интроспекцией, через вербально репрезентируемый образ, центрирующий текст как эстетическую авторскую структуру, создаёт целостный художественный образный «эстетический идеал», в котором преодолевается «двойная модальность» эстетического эйдоса. Одним из самых ярких онейрических форм интроспектрально воспроизведённого эйдетического образа становится сомнологический образ. Не каждый сон является эйдетическим образом. Сон как приём и способ раскрытия психологии и характера героя, не соотносимый с «памятью прошлого» и онтологическими смыслами, представляет собой классический последовательный образ и выполняет функцию элемента поэтики. Художественная сомнологическая онейросфера, соотносимая с авторским мифом, создающим образы иномира или инобытия, структурирующего парадигму «сознание мира – сознание текста – сознание автора / героя», может быть охарактеризована как эйдетическая образность. Посылом к ней становится так называемое «осознаваемое сновидение» (термин нидерландского психиатра Ф. ван Эдена). Сновидные психические или, точнее, сознательные образы в каждом отдельном тексте обладают смысловой и структурной индивидуальностью, которая определяется спецификой соотношения «реальность - сознание - ирреальность». Эйдетическими могут быть обозначены только те, в которых присутствует эффект «перевёрнутого образа» (Н. С. Валгина), – то есть онейросфери-ческий образ воспринимается как реальность, а реальность воспринима- ется как иллюзия, «вторичная реальность», условная реальность и т. д. Точно выразил это качество взаимообратимости Х.Л. Борхес в формуле, концептуализирующей эйдетический инвариант художественного оней-росферического образа: «Всё, что существует – сон, всё, что не сон – не существует».
Литературу всегда, вне зависимости от направленческих приоритетов, тянуло к познанию маргинальных явлений, выявляемых в художественном пространстве на уровне системы «параллельных миров». Сновидения, формирующие особое пространство онейросферы (В. Н. Топоров), являются самостоятельным «параллельным миром» (по отношению к реальности действительности) в художественной системе «жизненных миров», но в то же время образуют своеобразную проблемно-тематическую призму в познании и отражении таких параллельных бинарностей как «смерть - жизнь», «реальность – ирреальность», «мистика – рационализм», двойничество, двоемирие и т. д. В колоссальном интересе к постижению сновидческого типа сознания проявляется тяга писателей к некоему литературному симбиозу религиозно-философских традиций, психоаналитических теорий и эстетических способов миро-моделирования.
Возможность использования сновидения в качестве элемента поэтики достаточно исследована, поскольку этим приёмом активно пользовались в классической литературе прошлого. Но именно в ХХ веке в литературе концептуализируется телеологическое рассмотрение сна (по К. Г. Юнгу), в котором и кроется ключ к пониманию сновидческого эй-доса. Характерно это для неклассической парадигмы художественности со свойственным ей полионтическим мышлением, постулирующим существование множества миров и промежуточных реальностей. Сновидение в этом случае одновременно выполняет двойную функцию – пороговая реальность и самостоятельный виртуальный мир, рождаемый или вследствие измененных состояний сознания человека (как например, у В. Ерофеева или В. Пелевина) или экзистенциально существующий как маргинальная данность (мир-в-себе) (например, в романе П. Алешковского «Рыба. История одной миграции »), а иногда имеющий при этом самодостаточный онтологический статус (как, например, у Ю. Мамлеева). Сложность выявления онейрической специфики художественного текста с эйдетической заданностью образа-сознания заключена в том, что активно используется способность сновидения быть «точкой схождения всех бытийных горизонтов» и тем самым создавать эффект неразличения иллюзии и реальности. В этой связи нас интересует сон не как приём поэтики, а как инвариант «первого пространства», когда он перестаёт быть «окном в иную реальность», а сам становится ею, то есть художественным эйдосом.
Художественная логика онейросферы эйдетической образности
Первый художественный опыт в этой области, на наш взгляд, фиксируется уже в начале ХХ века. В русском модернизме начала ХХ века, в ряде произведений символистского толка эстетизируется новая неклассическая миромодель «текст – сознание», в рамках которой художественно конструируется самостоятельная текстовая реальность, свободная от миметических задач реализма отражать действительность. Чаще всего фиксируется отражение онтологии персонологического сознания. Например, в рассказе Л. Андреева «Красный смех» безумие сознания героя есть воплощение безумия жизни, в которой место Бога заняла Смерть, воплощенная в маске Красного смеха. Увиденное героем обезображенное лицо солдата становится не просто визуальным стимулом для последующего эйдетического образа, а приобретает реальный эстетический образ «красного смеха», который замещает собой сознание героя и позиционируется автором как сознание текста – образ «отсутствующего мира». Рассказ начинается с акцентации на двух концептуальных категориях сознания - «… безумие и ужас » [2]. Сильная смысловая позиция начала акцентирует внимание на особом психическом состоянии героя, позволяющем обозначить его как эйдетика, человека, способного к видению отсутствующего предмета и сохранению его в памяти на уровне ощущения. Герой воспроизводит образ смерти через энтропийную модель «отсутствующего» текста, но смыслопорождающего онтологию реальности войны. Интроспективное воспроизведение эйдетической «галлюцинации» в герое «больного, разрушенного» сознания передаёт бытийный смысл «разрушенной» действительности.
Наиболее ярким классическим примером онейросферы с заданными константами эйдетической образности онейросферы становится роман А. Белого «Петербург», который, по мнению Н. А. Нагорной, «насыщен сновидческими образами и местами и целиком подчинён “логике сна”. Сфера сновидений романа включает в себя как прямые описания снов, галлюцинации и бреда персонажей, т. е. их объективное “второе пространство”, так и онейрические перспективы Петербурга, его другое измерение» [6, с. 42].
Но, тем не менее, роман не представляет собой в художественном и психологическом аспектах сон в чистом виде, это, скорее всего, некое осознание тождества реальности с Абсолютным подсознанием, выраженным в сновидении, что обычно и даёт сомнологам возможность фиксировать сокровенное Я человека в образах онейросферы. Не реальность мира, а именно подсознание человека и есть сон в понимании А. Белого, – сон как некая внутренняя проекция, за которой кроется внешняя реальность. Архитектоника романа-сна структурируется в системе прин- ципов «зеркального коридора», когда за метафорикой сна скрывается ещё более метафизичное явление – трансцендентальное бытие, запечатлённое в феномене «сон в сне». Более всего в начале ХХ века к этой сомнологи-ческой теории, основанной на доказательстве трансформации сна в «ещё более сон», близок Даниил Хармс. Абсурдизируя реальность, Хармс выводит её в онейросферу самого сна. Создаваемая иллюзия «сна в сне» уничтожает сюжетную линию рассказа «Сон» и вместе с расширением пространства сознания героя уничтожает смысл мира, превращая его в некий хаос пространств. Так возникают антиэстетические основания образного эйдетизма Хармса.
Феномен подобного многослойного сновидческого измененного состояния сознания рождает онейрический тип «сновидящего» человека – homo dreamer , продуцирующего сомнологическую модель мира, стыкующую «параллельные миры» яви и сна, особенно активно представленного в современной русской литературе. Довольно специфична сомноло-гическая концепция в прозе В. Пелевина, развивающего борхесианскую линию сновидческой «семантики возможных миров». Художественная концепция Борхеса выводит на один уровень онтологическую и сомноло-гическую концепции, утверждая, что «мир, бытие, реальность – всё это сновидения наяву», «явь реальна только тогда, когда она – сновидение», или: «Жизнь есть сон, снящийся Богу». Практически все тексты писателя содержат в себе «эстетическую позицию» онейрического мира. Так, в романе «Священная книга оборотня» мир этот становится единственно возможной реальностью. Пелевин опускает проблему соотношения иллюзии и реальности и выводит своего читателя на другой онейриче-ский уровень – сосуществование разных возможных миров в плоскости сознательной иллюзии. Героиня рассказа проникает в пласты чужих изменённых сознаний через своё ( посредством эйдетического восприятия «чужого-в-своем» ) и рефлектирует чужими же онейрическими откровениями. В. Пелевин создаёт через архитектонику сомнологической модели «зеркала в зеркале» эстетизирует эйдетический образ «сон-сознание-Я». Его условием становится наличие особого состояние сознания героев, в котором нейтрализуются все бинарные оппозиции обыденности: жизнь и смерть, иллюзия и реальность сливаются в одну точку времени и пространства. Именно в этом сознании возникает то психически-психологи-ческое состояние, которое приводит к провидческим эйдетическим грезам «сновидящей» А-Хули.
Интересным представляется и сновидческий лабиринт в рассказе Ю. Мамлеева «Сон в лесу». Мамлеев, следуя мифологической логике (достаточно распространённой в неклассической парадигме художественности), создаёт онейросферическую метафикциональную модель «лабиринта в лабиринте», где входом в одну лабиринтную сферу и выхо- дом становится «дружественный» лабиринт-матрешка и так до бесконечности: пространство леса есть вход в сон, в лабиринт сна ведёт другой сон, выходом из которого становится лес, также являющийся формой сна более высшего бытийного плана: «В глубоком сне ты, Настя. Ты думаешь, что проснулась. Но ты ещё в более страшный сон ушла. Что твои те два последних сна! Знаешь ты многое, но знание это только в сон тебя ещё глубже погружает. Ибо и знание тоже сном бывает» [5, с. 89].
Подобную лабиринтную архитектонику накладывающихся друг на друга измененных состояний сознания оборотнического эйдоса представляет Д. Липскеров в романе «Последний сон разума». В череде ли-кантропических превращений (героя романа «Последний сон разума» татарина Ильясова то в рыбу, то в птицу и т. д. – целая система архетипи-чески знаковых природных форм жизни) писатель исследует смерть как феномен взаимооборотничества «телесности» и «сознательности». Для Д. Липскерова смерть и есть способ телесной метаморфозы, – от этого сложного процесса одновременного, совпадающего умирания и оборот-ничества не меняется нравственная составляющая любой формы экзистенции (до и после) – она важна сама по себе как данность вне категории смерти. Смерть воспринимается в системе двух координат: смерть / перевоплощение / превращение – и смерть / сон . Во втором аспекте сом-нологическое пространство смерти как формы иносознания и есть тот доминантный мирообраз, который определяет «мироподобность» обо-ротнического мифа Д. Липскерова. Онейросфера смерти / сна создаёт иллюзию некоего единого пространства космоса-хаоса, в котором пере-текаемость антропологической и зооморфной телесности соотносится с идеей существования единой формы «органической телесности», не разграничивающей сознательность на человеческую и звериную. Смерть понимается Липскеровым не как состояние «ничто», тотального небытия, а как радикальная метаморфоза одного тела до качественно иного. Писатель использует тело-трансформ как эйдетический образ-знак хто-нического «инакобытия».
Логика «выпадения» героя в данное измерение предопределяется созданием особой модели пограничной реальности – между сном и явью – за счёт использования концептов «пограничного» сознания, в котором пребывает (во времени «меж», художественно фиксирующем реальность жизненного пространства героини в ирреальности сомно-логического забытья), например, героиня романа Петра Алешковского «Рыба. История одной миграции ». В системе подобного эйдоса-сна выявляется целая система экзистенциальных противоречий: «своё Я – чужой мир», «чужое Я – свой мир». «Миграция» из реальности в сон и наоборот создает особое сознание «сновидящей», через которое она погружается в «коллективное бессознательное», фиксируемое в образе
«рыбы», эйдетически соотносимым с мифосмыслами. Пространственная архитектоника далеко не линеарна: она смоделирована по принципу лабиринта с многочисленными поворотами и тупиками – эквивалентами различных форм измененных состояний сознания, пересекающихся на уровне эстетической структуры текста, которая совпадает с пространством всеобщего бытия, присутствующего в тексте в эйдос-образе «рыба», являющемся тайным христианским символом Иисуса Христа, а также отсылающем ко многим новозаветным эпизодам, толкующим, почему именно это существо было выбрано первыми христианами как олицетворение Мессии. В романе очень важно, что действие происходит в Таджикистане, в Пенджикенте, символически соотносимом с исламскими святынями. Миграция мифосознаний в онейросфере противоположных религиозных хроносов и есть основа «ясно-сновидящего» эйдоса Алешковского: «Все это – и еще многое другое – я вспоминаю редко, но то и дело, кода я засыпаю, передо мною проходят чередой лица стариков и мужчин в чайхане, повернутые в сторону испарившихся гор, углубленные во что-то, что мне, девочке, ни понять, ни почувствовать было не дано, – лица стоящих в канале рыбин, тяжелых серебряных толстолобиков: скулы сведены, губы чуть-чуть шевелятся, словно лениво повторяют молитву, а маленькие глаза, не мигая, глядят сквозь тебя – страшные и холодные, как уснувшая вода» [1].
В системе онейрического «спектра сознания» (Сатпрем) сновидящих героев-эйдетиков ( homo dreamer ) отсутствует Будущность. Она возможна лишь как гипотетический вариант прошлого в системе мифоозначенного «вечного повторения» в измерениях памяти сознания и реализуется через смену циклов прошлого и настоящего, через триединство жизни - сна - памяти , реализующегося в художественном тексте через целостность «двойной модальности» содержательной формы эйдетического образа. Такова хронотопическая логика онейросферы эйдетической образности в архитектонике художественного текста.
Об авторе:
ГАРИПОВА Гульчира Талгатовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Владимирского государственного университета (600000, Владимир, ул. Горького, 87), e-mail: ggaripova2017@ yandex.ru.
Список литературы Homo dreamer и формы эйдоса-сна в онейросферической архитектонике русской прозы XX века
- Алешковский П. Рыба. История одно миграции. Роман [Электронный ресурс] // Литмир. Электронная библиотека. URL: https://www.litmir.me/br/?b=101861&p=l. (Дата обращения: 12.12.2019.)
- Андреев Л. Красный смех. Отрывки из найденной рукописи [Электронный ресурс] // Интернет-библиотека Алексея Комарова. URL: http://ilibrary.ru/text/1646/р.1/index.htm1. (Дата обращения: 25.11.2019.)
- Лосев А. Ф. Эстетические идеи Плотина в системе и преддверие мифологии [Электронный ресурс] // Лосев А. Ф. История античной эстетики, том шестой. URL: https://www.psyoffice.ru/9/lose006/txt36.html. (Дата обращения: 22.11.2019.)
- Лосев. А.Ф. Философия имени. М.: Изд-во МГУ, 1990. 220 с.
- Мамлеев Ю. О чудесном. Циклы. М.: Рипол классик, 2005. 640 с.
- Нагорная Н.А. "Второе пространство" и сновидения в романе Андрея Белого "Петербург" //Вестник Московского университета. Сер.9. Филология. 2003. №3. С. 41-58.
- Шафранская Э.Ф. Современная русская проза: Мифопоэтический ракурс: Учеб, пособие. М.: ЛЕНАНД, 2014. 216 с.