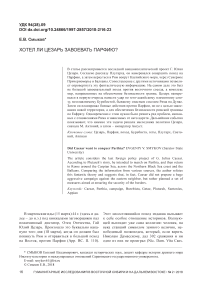Хотел ли цезарь завоевать парфию?
Автор: Смыков Евгений Владимирович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Vita memoriae. К 100-летию исторического образования на Дальнем Востоке
Статья в выпуске: 2 (44), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается последний внешнеполитический проект Г. Юлия Цезаря. Согласно рассказу Плутарха, он намеревался совершить поход на Парфию, а затем вернуться в Рим вокруг Каспийского моря, через Северное Причерноморье и Балканы. Сопоставление с другими источниками позволяет опровергнуть эту фантастическую информацию. На самом деле это был не большой завоевательный поход против восточного соседа, а комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности границ. Цезарь намеревался в первую очередь нанести удар по гето-дакийскому племенному союзу, возглавляемому Буребистой, бывшему опасным соседом Рима на Дунае. Затем он планировал боевые действия против Парфии, но не с целью завоевания новой территории, а для обеспечения безопасности римской границы по Евфрату. Одновременно с этим нужно было решить ряд проблем, связанных с отношениями Рима и зависимых от него царств. Дальнейшие события показывают, что именно эти задачи решали наследники политики Цезаря, сначала М. Антоний, а затем - император Август.
Цезарь, парфия, поход, буребиста, геты, плутарх, светоний, аппиан
Короткий адрес: https://sciup.org/170175849
IDR: 170175849 | УДК: 94(38).09 | DOI: 10.24866/1997-2857/2018-2/16-23
Текст научной статьи Хотел ли цезарь завоевать парфию?
В мартовские иды (15 марта) 44 г. (здесь и далее – до н.э.) под кинжалами заговорщиков пал пожизненный диктатор, Отец Отечества, Гай Юлий Цезарь. Произошло это буквально накануне того дня (18 марта), когда он должен был покинуть Рим и отправиться в большой поход на Восток, против Парфии (App . BC. II. 110).
Этот несостоявшийся поход издавна вызывает к себе особое отношение историков. Волнующей выглядит уже сама коллизия: человек, на века ставший символом земного величия, непобедимый полководец, который, если верить Николаю Дамасскому, дал 302 сражения и ни одно из них не проиграл (Nic. Dam. Vita Caes.
XXII. 80) против державы, чье противостояние с Римом на Востоке длилось три столетия! [35, c. 184-185] При этом сам собой возникает вопрос – а что было бы, если бы поход состоялся? «Бесславно было обагрено кровью тело человека, доходившего на запад до Британии и океана, замышлявшего поход на восток против Парфянского и Индийского царств с тем, чтобы, покорив также и их, объединить в одной державе всю власть над землей и морем» (Nic. Dam. Vita Caes. XXVI. 95), – выражал скорбь по поводу этого события Николай Дамасский, современник событий, как кажется, ни минуты не сомневаясь, что поход мог завершиться только победой. «Парфия была спасена. Великий разрушитель был уничтожен в тот момент, когда он был готов привести в исполнение свой грандиозный проект завоевания парфянской империи и провести Рим по дороге, проложенной Александром Великим», – констатирует Г. Ферреро спустя почти два тысячелетия [11, с. 456] (ср.: [35, с. 185]). Такой ответ на вопрос о возможной судьбе Парфии вполне объясним, учитывая культ Цезаря, который начал формироваться сразу после его смерти и благополучно дожил до наших дней.
Однако если мы обратимся к материалам источников, то оказывается, что их данные скудны и разрозненны. В сущности, они едины только в одном: поход должен был состояться; при этом сведений о стратегических планах Цезаря крайне мало. Николай Дамасский приписывает ему план покорения всего мира; но уже давно доказано, что источником этой части его сочинения Vita Caesaris является, по всей вероятности, автобиография самого Августа [2, с. 241; 25, p. 415], так что все это утверждение оказывается набором штампов, отчасти восходящих к эпохе Августа (cp.: Hor . Carm. I. 12. 56; Verg . Aen. VI. 793 sq.), отчасти, возможно, содержащих полемику с прославлением достижений Помпея (ср. претензии Помпея на славу покорителя мира: Cic. Sest. 67; 129; Balb. 16; Prov. cons. 31; De domo suo. 110; Vell. II.40.4; Plut. Pomp. 45.7) [34, с. 437].
Нечто подобное сообщает и Плутарх: «Он готовился к войне с парфянами, а после покорения их имел намерение, пройдя через Гир-канию вдоль Каспийского моря и Кавказа, обойти Понт и вторгнуться в Скифию, затем напасть на соседние с Германией страны и на самое Германию и возвратиться в Италию через Галлию, сомкнув круг римских владений так, чтобы со всех сторон империя граничила с Океаном» (Plut. Caes. 58.3, пер. Г.А. Страта-новского, К.П. Лампсакова). Однако Плутарх, современник императора Траяна, мыслил уже в совершенно иных геополитических категориях в сравнении с веком Цезаря. Его Помпей мечтает «захватить Сирию и проникнуть через Аравию к Красному морю, чтобы победоносно достигнуть Океана, окружающего со всех сторон обитаемый мир» (Pomp. 38, пер. Г.А. Страта-новского), а Красс «рвался на восток, к Индийскому океану, желая присоединить к римской державе всю Азию» (Plut. Comp. Nic et Cr. 4, пер. Т.А. Миллер). Совершенно очевидно, что все это находит свою ближайшую параллель в завоевательных планах Траяна [21, p. 447-448].
Именно на эти сообщения опирается «глобалистская» трактовка планов Цезаря, весьма распространенная в историографии [18, p. 610-611; 19, p. 368; 31, p. 475]. Но есть и иные источники, не столь яркие литературно, рисующие события несколько в ином свете. Так, Веллей Патеркул лишь мимоходом упоминает, что Цезарь «замыслив войну с гетами и парфянами, вознамерился сделать … своим соратником» Г. Октавия, будущего Августа (Vell. II. 59. 4). Согласно Светонию, он намеревался «усмирить вторгшихся во Фракию и Понт дакийцев, а затем пойти войной на парфян через Малую Армению, но не вступать в решительный бой, не познакомившись предварительно с неприятелем» (Suet. DJ. 44.3, пер. М.Л. Гаспарова). В том же порядке он сообщает о последовательности действий Цезаря и в биографии Августа: поход против парфян следует за походом против дакийцев (Suet. DA. 8.2). Наконец, согласно Аппиану, диктатор «задумал большой поход на гетов и парфян, гетам, племени суровому, воинственному и обитающему по соседству, для того, чтобы предотвратить их нападения, а парфянам – чтобы отомстить им за нарушение мирного договора с Крассом» (App. BC. II. 110).
Итак, если Николай Дамасский вообще не говорит о планируемых боевых действиях на Дунае, а Плутарх считает, что удар по гето-да-кийским племенам («соседние с Германией страны») должен был быть нанесен при возвращении армии кружным путем, да еще и с добавлением удара по самой Германии, то Веллей и Светоний ставят поход против дунайских племен на первое место, как действие, предшествующее наступлению на Парфию, а Аппиан не дает четкого ответа на вопрос о последовательности действий, перевод его текста как «сперва по гетам, потом по парфянам» не является кор- ректным [34, p. 436, Anm. 25]. Соседство гетов и парфян в этих сообщениях позволяет увидеть планируемую войну несколько в ином свете, не как новые масштабные завоевания, а как комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасности границ. Именно так понимал намерения Цезаря еще Т. Моммзен, который при всем пиетете к личности своего героя не приписывал ему чрезмерных планов: «Ничто не указывает нам на желание Цезаря победоносно продвигаться, подобно Александру, в бесконечно далекие страны; <…> …Никакой достоверный авторитет не подтверждает существования этих баснословных проектов. Для государства, подобного Риму при Цезаре, заключавшего в себе массу варварских элементов, с которыми трудно было совладать и на ассимилирование которых оно должно было еще употребить несколько столетий, такие завоевания, даже если считать их выполнимыми в военном отношении, были бы не чем иным, как только гораздо более блестящими, но и гораздо более печальными ошибками, чем индийский поход Александра» [9, с. 338-339].
Действительно, к 44 г. границы по Дунаю и по Евфрату были наиболее беспокойными местами. У гетов к этому времени сложилось мощное племенное образование во главе с Бу-ребистой (Беребистой), жившее за счет набегов и ограбления сопредельных территорий. Правда, Иордан делает Буребисту современником Суллы, т.е. относит его воцарение к концу 80-х гг. I в. до н.э. (Get. 67), но, скорее всего, это ошибка, которую он повторил вслед за Кас-сиодором, который послужил ему источником [15, p. 1958]. Скорее, следует признать, что он пришел к власти двумя десятилетиями позже, т.е. примерно одновременно с выдвижением Цезаря в первые ряды римских политиков [14, p. 262]. Заметим, кстати, что, начав активную деятельность примерно одновременно, они практически одновременно и сходят со сцены, и оба погибают от рук своих приближенных: по словам Страбона, «после восстания некоторых мятежников против Беребисты последний был низвержен, прежде чем римляне выступили против него походом. Его преемники разделили державу на несколько частей» (VII. 3. 11. С 304, пер. Г.А. Стратановского).
К сожалению, история правления Буреби-сты известна нам лишь в самых общих чертах. Главным источником здесь служит все тот же Страбон. Он пишет: «Беребиста, гет, достиг верховной власти над своим племенем. Ему удалось возродить свой народ, изнуренный длительными войнами, и настолько возвысить его путем физических упражнений, воздержания и повиновения его приказам, что за несколько лет он основал великую державу и подчинил гетам бóльшую часть соседних племен. Он стал внушать страх даже римлянам, так как безбоязненно переходил Истр, разоряя Фракию вплоть до Македонии и Иллирии; он опустошил также страну кельтов, смешавшихся с фракийцами и иллирийцами, а бойев, бывших под властью Критасира, и таврисков совершенно уничтожил» (VII. 3. 11. С 304).
Исходя из этих данных румынские историки приписывают вождю гетов продуманный политический курс. Так, И. Кришан пишет, что «это не были изолированные акции с целью разграбления того или иного греческого города, но тщательно запланированная политика интеграции всего западнопонтийского побережья со всеми его городами в Гето-Дакийское государство» [16, p. 125]. П. Вэдан говорит об инкорпорации понтийских колоний в Дакийское царство [40, p. 78-79]. Ареал гетской военной экспансии действительно был достаточно велик, но утверждение, что все эти земли вошли в «царство» Буребисты [8, с. 25], все же слишком рискованное. Геты вообще не стремились экономически и политически освоить разоренные ими земли – что на востоке, что на западе. После разгрома и полного уничтожения бойев, например, их земли пустовали, так что Страбон говорит о «пустыне бойев» (VII. 1. 5. С 292); то же самое наименование, deserta boiorum , многими годами позже употребляет Плиний Старший (NH. III.146).
Но если мотивы истребления бойев еще как-то можно объяснить перманентной кельтской угрозой, то варварские набеги на Западный Понт носили откровенно разбойничий характер. Что до характера военных побед Биребисты на Понте, то его тактика заключалась в выборе наиболее обескровленного противника, не способного в данный момент оказать серьезное сопротивление. Аполлония, например, накануне была разметена войсками Марка Теренция Лукулла (Eutr. VI. 10), Истрия пришла в упадок еще столетием раньше Буребисты, а Ольвия к тому времени тоже уже практически не представляла собой крупного города. Таким образом, покорение этих городов вовсе не требовало недюжинной военной одаренности [3, с. 267-269]. Подобная форма военной экспансии характерна для начальных этапов раз- вития государства, так что само объединение, возглавляемое Буребистой, являлось ни в коем случае не монархией, тем более не монархией эллинистического типа, а племенным союзом [9, с. 90; 3, с. 265, прим. 168; 270-271].
Однако племенной союз был едва ли не более опасным соседом, чем развитое государственное образование. Внешняя политика соседнего государства в любом случае более предсказуема, чем варварская стихия. Ю.Г. Виноградов блестяще охарактеризовал основы «политики» варваров: «Да, это была политика, …но политика совершенно иного толка: вместо создания протектората, вместо экономической эксплуатации путем регулярного взимания трибута в обмен на гарантии защиты…, совершенно неприкрытое насилие, причем прежде всего над наиболее слабым противником, без думы о завтрашнем дне, вырезание целых племен, разгром, грабеж, стирание с лица земли целых городов, жестокие требования беспрекословного повиновения от современников и т.д.» [3, с. 270]. Ситуация была тем более острой, что в распоряжении «царя» ге-тов находились значительные силы. Страбон называет численность выставляемого Биребистой войска – 200 тыс. чел. По мнению В. Пырва-на, цифра эта вполне реальна и даже довольно скромна для густонаселенного карпато-дунай-ского региона, если принять, что в войско, согласно обычной варварской системе, мобилизовали пятую часть населения [33, p. 203/91]. Но если даже цифра завышена, что обычно для античных авторов, то, во всяком случае, не подлежит сомнению, что силы и активность Буреби-сты были действительно велики и он был очень опасным соседом для римских владений.
В этом контексте следует рассматривать и контакты Буребисты с Помпеем. О самом факте посольства нам известно только из декрета в честь Акорниона, гражданина Дионисополя (Ditt. Syll. 762. 32-37), который исполнил это поручение вождя гетов; однако о цели посольства нам неизвестно ничего, и, скорее всего, прав Ю.Г. Виноградов: Акорнион должен был либо отвратить от гетов опасность того, что Помпей обратит свое оружие против них, либо убедиться, что таковой не существует [3, с. 266]. Но кроме этого следует учитывать и взгляд на эти события самого Цезаря: Помпей принял посольство от могущественного варвара, который в любой момент может вторгнуться в римские владения. Пусть даже это не имело никаких практических последствий, но опасность сохранялась и ее надлежало ликвидировать.
Сходной была ситуация и на другом естественном рубеже Рима – на Евфрате. Парфянская угроза, timor Paethici belli , также существовала уже почти десять лет, со времени поражения Красса, ее упоминает и сам Цезарь (Caes. BC. III. 31. 3), и Цицерон (Cic. Fam. XII. 19. 2). В начале гражданской войны Луцилий Гирр был послан Помпеем к парфянскому царю Ороду II (Caes. BC. III. 82. 5). Если верить Кассию Диону, царь не предоставил Помпею помощи, о которой тот просил, а самого Гирра заключил в оковы (Cass. Dio. XLII. 2. 5). Хотя цели посольства и его результаты не вполне ясны (возможно, речь шла вовсе не о помощи, а о соблюдении парфянами нейтралитета [23, p. 393-394]), парфяне удержались от вмешательства в римские дела и от интервенции, не пытаясь воспользоваться ослаблением римского контроля над восточными провинциями. Однако при этом тщательное рассмотрение источников демонстрирует, что Парфия отнюдь не обязательно была союзницей Помпея и расценивалась им как возможная база для продолжения борьбы после битвы при Фарсале [27, p. 142-143].
Всего этого явно недостаточно, чтобы приписывать Цезарю планы парфянского похода уже начиная с 47 г., как это делают некоторые исследователи [24, с. 326; 28, p. 29-30; 30, p. 601; 38, p. 114-115]. Противостояние носило, если можно так выразиться, «холодный» характер, и не в интересах Цезаря было переводить его в «горячую» стадию, добавляя себе нового опасного военного противника. Но вскоре ситуация изменилась [1, с. 77-78]. Уже в 46 г. наместник Киликии Кв. Корнифиций опасался парфянского вторжения в Сирию, которую Цезарь добавил к его провинции (Cic. Fam. XII. 19. 2), что, возможно, было связано с просьбой о помощи, с которой к парфянскому царю обратился мятежный военачальник Кв. Цецилий Басс [38, p. 115]. Сам Корнифиций в сирийское командование так и не вступил [4, с. 105]; как он и опасался, в конце 45 г. значительные силы парфянской конницы во главе с царевичем Па-кором вторглись в Сирию и нанесли удар по войскам цезарианца Г. Антистия Вета, бло-кировапвшего Басса в Апамее. Блокада была прорвана, а войска Вета понесли большие потери (Cic. Fam. XII. 17. 1; Strab. XVI. 753; Jos. AJ. XIV. 268; BJ. I. 216; Cass. Dio. XLVII. 26. 3-27. 2). Интересны два момента: во-первых, хотя мы ничего не знаем об условиях, на которых парфяне оказали помощь Бассу, нет ника- ких признаков того, что они пытались как-то закрепиться в Сирии, что, как будто, не очень вяжется с их стремлением подчинить себе эту римскую провинцию. Во-вторых, любопытно, что вторжение возглавлял Пакор – фигура, несомненно, знаковая, с которой были связаны воспоминания о предыдущем вторжении в Сирию в 51-50 гг. [10, с. 312-322]. Таким образом, на передний план вновь выдвинулась группировка, настроенная на проведение активной политики по отношению к римским владениям. Именно это превращало границу по Евфрату в еще одну «горячую» зону и делало насущно необходимым урегулирование ситуации.
Таким образом, причину готовившихся Цезарем мероприятий следует искать не в мифических планах «завоевания мира» [31, p. 472], и не в «большой империалистической политике по отношению к Парфии» [38, p. 114], а именно в этих внешнеполитических проблемах. Каково было возможное развитие событий? Скорее всего, кампания 44 г. должна была быть направлена против Буребисты [13, p. 6]. Цезарю не впервой было иметь дело с могущественным варварским вождем, и, как правило, дело ограничивалось одной кампанией; вряд ли он полагал, что на гетов понадобится больше времени, тем более что его армия значительно превышала по численности ту, которую он имел во время Галльских войн [34, с. 438]. К моменту гибели Цезаря войска из Аполлонии двигались в Македонию, на соединение со стоящими там легионами. Концентрация войск на севере Балканского полуострова, возможно, тоже говорит о намерении нанести первый удар по Буребисте [5, с. 78, прим. 3; 6, с. 360-361]. При этом вполне возможно, что его поход за Дунай должен был явиться всего лишь грандиозной карательной акцией – на 43 г. провинцию Македония должен был получить М. Антоний [36, p. 187], так что вполне возможно, что окончательное замирение побежденных гетов должно было достаться ему [28, p. 54-55].
На кампанию на Востоке оставалось бы два года. Но какое-то время, почти наверняка, пришлось бы потратить и на установление порядка в пестром мире зависимых царств. Во всяком случае, из наиболее крупных проблем, которые оставались на момент похода, можно назвать судьбу Дейотара и его царства, которые Цезарь, скорее всего, хотел решить на месте [32, с. 596; 37, с. 167], а также вопрос о власти в Боспорском царстве, где он столкнулся с явным неповиновением своей воле. Довольно вероят- ным выглядит предположение о том, что Цезарь опасался возможного союза между Буребистой и непокорным царем Боспора Асандром [12, p. 715]. Предпринятая Цезарем попытка утвердить на Боспоре своего ставленника Митридата Пергамского завершилась неудачей [22], что, несомненно, требовало вмешательства самого диктатора. Возможно, именно это намерение вмешаться в боспорские дела преобразилось в воображении Плутарха в рассказ о намерении Цезаря возвращаться в Рим кружным путем – план, который Г. Бенгтсон справедливо назвал «империалистической фантазией, не имеющей никакого отношения к реальной политике» [13, p. 9].
К этому следует добавить, что неизвестно, как развивались бы события, связанные с мятежом Цецилия Басса. Во всяком случае, к 44 г. борьба с ним длилась уже около двух лет, а те шесть легионов, которые действовали против него, не добились существенных успехов, так что, скорее всего, Цезаря на Востоке ожидал еще и этот противник. Кроме того, согласно рассказу Светония, Цезарь намеревался «не вступать в решительный бой, не познакомившись предварительно с неприятелем» (Suet. DJ. 44. 3). Такое знакомство и другие подготовительные мероприятия тоже требовали определенного времени. Думается, что все это заняло бы второй год кампании.
Наконец, обеспечив себе спокойствие в тылу, можно было начинать наступление на Пар-фию. По поводу этой кампании предположения строить невозможно, все они окажутся чисто гадательными. Из Светония мы знаем общее направление наступления – через Малую Армению, т.е. избегая тех ошибок, которые допустил в своем походе Красс [31, p. 475; 41, p. 136, прим. 50]. Однако конкретная цель похода остается неясной. Возможно, Цезарь сознательно избегал четкой постановки целей, по крайней мере, их публичной формулировки. Это давало ему возможность представить любой успех как достижение поставленных задач [34, с. 437]. Поскольку ни о каком «завоевании» в территориальном смысле [17, p. 464-465; 39, p. 605] и речи быть не может в силу ограниченности отведенного на поход времени, скорее всего, речь должна была идти о демонстрации силы без намерения приобретения территорий за Евфратом [29, p. 224], или победе/победах над парфянской армией и «принуждении к миру», т.е. оттеснении парфян за новую границу по Евфрату [20, p. 172] и заключении договора с парфян- ским царем [26, p. 90-91]. Довольно вероятно и то, что зримым воплощением успеха всего предприятия должно было стать возвращение орлов, захваченных парфянами в результате поражения армии Красса [29, с. 227]. В конце концов, вполне вероятным выглядит и вторжение в Парфию, имеющее итогом утверждение на троне нового царя, который будет зависим от поддержки Рима. Во всяком случае, такое развитие событий можно предположить, исходя из политики М. Антония на Востоке, и принимая в расчет те условия, на которых Август урегулировал отношения двух держав (об аналогиях см.: [6, с. 362-363]).
В дополнение ко всему сказанному о характере и целях последних внешнеполитических планов Цезаря можно высказать еще одно соображение. Если Цезарь готовил масштабный поход на Восток, то, разумеется, план этой войны должен был умереть вместе с ним. Между тем Аппиан неоднократно упоминает, что после смерти Цезаря провинцию Сирия и поручение вести войну с парфянами получил Долабелла (App . BC. III. 7; 8; 24). Таким образом, диктатор был мертв, а необходимость ведения войны с парфянами сохранилась, только теперь вести ее должен был уже не гениальный полководец, а заурядный римский магистрат.
Список литературы Хотел ли цезарь завоевать парфию?
- Бокщанин А.Г. Парфия и Рим. Ч. 2. М., 1966.
- Веселаго Е.Б. Николай Дамасский // Вестник древней истории. 1960. № 3. С. 235-244.
- Виноградов Ю.Г. Политическая история ольвийского полиса. М., 1989.
- Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. СПб., 2008.
- Егоров А.Б. Последние планы Цезаря (к проблеме римского глобализма) // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. 2006. Вып. 5. С. 77-94.