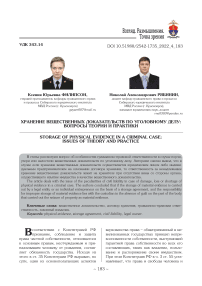Хранение вещественных доказательств по уголовному делу: вопросы теории и практики
Автор: Филипсон Ксения Юрьевна, Рябинин Николай Александрович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 4 (49), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен вопрос об особенностях гражданско-правовой ответственности в случае порчи, утери или недостачи вещественных доказательств по уголовному делу. Авторами сделан вывод, что в случае если хранение вещественных доказательств осуществляется юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем на основании договора хранения, то ответственность за ненадлежащее хранение вещественных доказательств лежит на хранителе при отсутствии вины со стороны органа, осуществившего изъятие имущества в качестве вещественного доказательства.
Вещественное доказательство, договор хранения, гражданско-правовая ответственность, законный владелец
Короткий адрес: https://sciup.org/140296373
IDR: 140296373 | УДК: 343.14
Текст научной статьи Хранение вещественных доказательств по уголовному делу: вопросы теории и практики
Всоответствии с Конституцией РФ признание, соблюдение и защита права частной собственности, относящегося к основным правам, неотчуждаемым и принадлежащим человеку от рождения, составляет обязанность государства. Исходя из этого в ст. 35 Конституции РФ выражен, по сути, один из основополагающих аспектов верховенства права – общепризнанный в цивилизованных государствах принцип неприкосновенности собственности, выступающий гарантией права собственности во всех его составляющих, таких как владение, пользование и распоряжение своим имуществом. При этом Конституция РФ в ч. 3 ст. 55 устанавливает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Вмешательство государства в отношения собственности не должно быть произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав личности, что предполагает разумную соразмерность между используемыми средствами и преследуемой целью, с тем чтобы обеспечивался баланс конституционно защищаемых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному обременению1. По смыслу ст. 35 Конституции РФ во взаимосвязи с ее ст. 55 возможные ограничения права собственности в целях защиты публичных интересов могут обуславливаться, в частности, необходимостью обеспечения производства по уголовному делу, для чего лица, производящие дознание и предварительное следствие, наделяются полномочиями по применению соответствующих обеспечительных мер, связанных с изъятием имущества в целях сохранения самого предмета, его признаков и свойств, имеющих значение для установления обстоятельств по уголовному делу.
Уголовно-процессуальным кодексом РФ закреплено, что предметы (в том числе имущество, которое получено в результате совершения преступления или может служить средством для установления обстоятельств уголовного дела), признанные вещественными доказательствами, приобщаются к уголовному делу и хранятся при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела (ст. 81, 82).
Обращаясь к вопросу о допустимости изъятия имущества в качестве вещественного доказательства по уголовному делу у собственника или законного владельца по решению государственного органа или должностного лица, осуществляющих предупреждение, пресечение или раскрытие правонарушения, Конституционный Суд РФ сформулировал правовую позицию, согласно которой временное изъятие имущества, представляющее собой процессуальную меру обеспечительного характера и не порождающее перехода права собственности на имущество, не может расцениваться как нарушение конституционных прав и свобод, в том числе как нарушение права собственности, при том, что лицам, в отношении которых применяются подобного рода меры, сопряженные с ограничением правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом, обеспечивается закрепленное ст. 46 Конституции РФ право обжаловать соответствующие решения и действия в судебном порядке. Конституционный Суд РФ в постановлениях от 20 мая 1997 г. N 8-П и от 11 марта 1998 г. N 8-П также не исключает законодательного установления дополнительных гарантий защиты права собственности, кроме возможности обжалования решения об изъятии имущества в судебном порядке2.
Дополнительные гарантии соблюдения имущественных прав законных владельцев изъятого имущества определяются постановлением Правительства РФ от 8 мая 2015 г. N 449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам», а также приказом ФТС России от 30 декабря 2015 г. N 269 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения предметов и документов по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации» и приказом Следственного комитета РФ от 30 сентября 2011 г. N 142 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации».
Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением сохранности вещественных доказательств в рамках предварительного следствия, урегулированы нормами не только публичного, но и частного права, что прямо закреплено в п. 2 постановления Правительства РФ от 8 мая 2015 г. N 449. Согласно указанному пункту вещественные доказательства в виде предметов, в том числе больших партий товаров, которые в силу громоздкости или иных причин, в частности в связи с необходимостью обеспечения специальных условий их хранения, не могут храниться при уголовном деле или в камере хранения вещественных доказательств, могут передаваться на хранение юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, имеющим условия для их хранения и наделенным правом в соответствии с законодательством Российской Федерации на их хранение, на основании договора хранения, заключенного уполномоченным органом и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Возможность применения положений главы 47 ГК РФ при заключении договора хранения вещественных доказательств по уголовному делу содержится в ст. 906 ГК РФ. В соответствии с данной статьей хранение может быть осуществлено в силу закона в случаях, когда обязанность осуществить хранение не основана на добровольном волеизъявлении сторон в порядке заключения договора, а предусмотрена законом и иными нормативными правовыми актами. Обязанность по обеспечению сохранности вещественных доказательств в целях установления наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также в целях защиты субъективных прав потерпевшего от преступления закреплена в ст. 82 УПК РФ. Следует отметить, что нормы уголовно-процессуального права, хотя и содержат обязанность специально уполномоченных субъектов по хранению вещественных доказательств, но не предусматривают вид и форму ответственности за ее ненадлежащее исполнение. Иные приведенные выше нормативные правовые акты определяют лишь лиц, ответственных за хранение, а также правила хранения, условия хранения, учет и передачу вещественных доказательств по уголовным делам.
Рассмотрим особенности применения гражданско-правовой ответственности в связи с ненадлежащим хранением вещественных доказательств в соответствии со ст. 82 УПК РФ.
Положения ст. 82 УПК РФ закрепляют два порядка хранения вещественных доказательств.
Порядок хранения вещественных доказательств при уголовном деле позволяет обеспечить передачу вещественного доказательства от одного субъекта другому вместе с уголовным делом. Хранение вещественных доказательств при уголовном деле осуществляется на основании постановления следователя или дознавателя в соответствии со ст. 81 УК РФ. Так, в случае признания предметов либо документов вещественными доказательствами следователь или дознаватель обязаны самостоятельно обеспечить их сохранность при уголовном деле либо передать на хранение в специальные хранилища, расположенные по месту расследования преступления. Вещественные доказательства, помещенные в особые хранилища, числятся за тем органом, куда передается уголовное дело, о чем направляется уведомление по месту хранения вещественных доказательств и делается отметка в книге и справочном листе по уголовному делу о том, у кого они находятся на хранении. При хранении вещественных доказательств при уголовном деле ответственность за их сохранность несет лицо, ведущее следствие или дознание, если же вещественные доказательства подлежат хранению в специальных хранилищах, то работник этого учреждения1. При этом действующее Положение о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия и суда, утвержденное Указом Президиума ВС СССР от 18 мая 1981 г. N 4892-X, определяет, что необеспечение надлежащего учета и условий хранения, передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества, повлекшее их утрату, порчу, является основанием для привлечения к предусмотренной законом ответственности лиц, по вине которых произошли указанные последствия. Однако положение не содержит указания на вид налагаемой юридической ответственности.
Анализ судебной практики показал, что суды при разрешении дел, связанных с осуществлением ненадлежащего хранения вещественных доказательств, руководствуются положениями о привлечении к гражданско-правовой ответственности за причинение вреда по основаниям главы 59 ГК РФ. Как следует из ч. 3 ст. 33 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции», вред, причиненный гражданам и организациям противоправными действиями (бездействием) сотрудника полиции при выполнении им служебных обязанностей, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Согласно п. 2 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 1069 ГК РФ. Статья 1069 ГК РФ устанавливает, что вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образова-ния1.
Таким образом, в случае ненадлежащего осуществления хранения вещественных доказательств привлечению к гражданско-правовой ответственности подлежат следователь, дознаватель либо работник специального хранилища. Однако, на наш взгляд, при вынесении решений по данной категории дел суды допускают необоснованное применение положений главы 59 ГК РФ. Считаем, что применение норм о деликтной ответственности является недопустимым, так как противоречит существу складывающихся отношений на основании ст. 82 УПК РФ. Полагаем, что согласно ст. 82 УПК РФ в ее взаимосвязи со ст. 609 ГК РФ между органом, осуществившим изъятие имущества в качестве вещественного доказательства, и собственником данного имущества фактически складываются правоотношения по хранению имущества как вещественного доказательства в рамках уголовного дела в силу закона. Следовательно, судам необходимо руководствоваться главой 47 ГК РФ. Пункт 1 ст. 886, п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 887 ГК РФ раскрывают содержание правоотношений, складывающихся при хранении вещественных доказательств при уголовном деле. Так, по договору хранения в силу закона одна сторона (хранитель) – следователь или дознаватель – обязуется хранить вещь, признанную в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, изъятую в процессе осуществления уголовного расследования либо переданную ей другой стороной законным владельцем имущества (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, указанных в ст. 161 ГК РФ. Письменная форма договора хранения вещественных доказательств будет считаться соблюденной в случае вынесения постановления следовате- ля либо дознавателя о признании имущества в качестве вещественного доказательства и приобщении его к материалам уголовного дела.
В связи с этим орган, осуществивший изъятие имущества в качестве вещественного доказательства и допустивший его утрату либо порчу, будет нести ответственность не в соответствии со ст. 1069 ГК РФ, а согласно ст. 901 ГК РФ. Положения ст. 1069 ГК РФ могут применяться лишь для определения органа, за счет средств которого возмещается вред, причиненный ненадлежащим исполнением обязанностей по договору хранения вещественных доказательств.
Порядок хранения вещественных доказательств вне уголовного дела применяется в случае невозможности хранения вещественных доказательств при уголовном деле в силу громоздкости или иных причин, например, больших партий товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения соизмеримы с их о стоимостью. Хранение вещественных доказательств вне уголовного дела может осуществляться следующими субъектами согласно ст. 82 УПК РФ: 1) законным владельцем; 2) банком или иной кредитной организацией; 3) государственными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 4) юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на основании договора хранения.
Рассмотрим вопрос применения гражданско-правовой ответственности в случае ненадлежащего исполнения обязанностей по договору хранения вещественных доказательств юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
Согласно разъяснению Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России договоры хранения вещественных доказательств заключаются между органом, осуществившим изъятие вещественных доказательств, и хранителем в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(письмо Минэкономразвития России от 4 мая 2016 г. N ОГ-Д28-5908). Следовательно, отношения, складывающиеся между органом, осуществившим изъятие вещественного доказательства, и хранителем, регулируются положениями гражданского законодательства. Так, ст. 891 ГК РФ закрепляет, что юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, принявшие вещественные доказательства на хранение, обязаны принять все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным ст. 401 ГК РФ. При этом профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя. Таким образом, за утрату, порчу либо недостачу вещественных доказательств, переданных на хранение, ответственность будет возложена именно на профессионального хранителя. Однако в судебной практике и в теории гражданского права [1, с. 45; 2, с. 63; 3 с. 5; 4, с. 49; 5, с. 68; 6, с. 20; 7, с. 118] не сложилось единого мнения относительно того, кто будет нести ответственность за имущественный вред, причиненный собственнику вещественных доказательств.
Приведем примеры из судебной практики. Гражданин Н. обратился в районный суд Санкт-Петербурга к ответчику – Главному следственному управлению ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о возмещении материального ущерба в размере стоимости утраченного автомобиля. Как следует из материалов дела, принадлежащий истцу автомобиль был передан им на основании доверенности во временное пользование гражданину В., в отношении которого было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела автомобиль был арестован на основании постановления старшего следователя и признан вещественным доказательством. Изъятый автомобиль был передан на ответственное хранение на стоянку. Далее в отношении В. был вынесен обвинительный приговор, вступивший в силу, при этом постановлено возвратить истцу принадлежащий ему автомобиль. Однако вернуть автомобиль представилось невозможным ввиду отсутствия транспортного средства на стоянке1.
Разрешая требования истца о возмещении причиненного имущественного вреда, суд первой инстанции пришел к выводу, что хищение автомобиля истца произошло в результате отсутствия контроля за его хранением, вследствие бездействия должностного лица, в связи с чем истцу причинен ущерб, который подлежит возмещению за счет средств казны Российской Федерации. При вынесении решения суд обоснованно руководствовался положениями Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами. Пунктом 15 указанной Инструкции установлено, что ответственным за хранение вещественных доказательств, ценностей и иного имущества, изъятых в связи с уголовным делом и хранящихся отдельно от него, является назначаемый специальным приказом прокурора, руководителя органа внутренних дел работник этого учреждения. При этом в параграфе 89 Инструкции закреплена обязанность начальника следственного подразделения, начальника органа дознания не реже одного раза в год проверять состояние и условия хранения вещественных доказательств, правильность ведения документов по их приему и учету, передаче. В процессе рассмотрения гражданского дела было установлено, что ответственными должностными лицами контроль за надлежащим хранением не осуществлялся. В связи с этим бездействие со стороны ответчика, выразившееся в несоблюдении требований действующего уголовно-процессуального законодательства, а также требований законодательства об обеспечении сохранности вещественного доказательства, повлекли за собой нарушение субъективных прав собственника вещественных доказательств.
Противоположное решение вынесено Арбитражным судом Северо-Западного окру-га2. Индивидуальный предприниматель Д. обратился в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации с требованием о возмещении убытков, причиненных незаконным привлечением к уголовной ответственности. Как следует из материалов дела, постановлением прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Д. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Далее постановлением следователя СО при УВД транспортное средство – полуприцеп-рефрижератор, принадлежащий гражданину Д., – признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, местом хранения определена автостоянка. Автостоянка оказывала услуги по хранению вещественных доказательств на основании заключенного договора хранения с органом, осуществившим изъятие вещественного доказательства. В последующем постановлением следователя уголовное дело и уголовное преследование в отношении гражданина Д. прекращены, вынесено решение о возврате вещественного доказательства. Однако вещественное доказательство гражданину Д. возращено не было в связи с его хищением с автостоянки.
Разрешая дело по существу, суд указал, что для наступления гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков должно быть доказано наличие совокупности следующих обстоятельств: наличие и размер причиненного ущерба, вина причинителя вреда, причинно-следственная связь между противоправными действиями (бездействием) причинителя вреда и наступившими последствиями. Оценив представленные доказа- тельства в их совокупности и взаимной связи, апелляционный суд пришел к выводу, что действия должностных лиц по обеспечению сохранности вещественных доказательств были осуществлены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Согласно статье 82 УПК РФ, так как транспортное средство не могло храниться при материалах дела в силу его в громоздкости, оно было передано на хранение профессиональному хранителю, в связи с чем суд сделал вывод о правомерности действий следователя по обеспечению сохранности вещественных доказательств и отсутствии оснований для привлечения к гражданско-правовой ответственности органа, осуществившего изъятие вещественного доказательства. При этом в процессе рассмотрения дела суд не исследовал обстоятельства, связанные с исполнением следователем положений и инструкций по учету и хранению вещественных доказательств.
На наш взгляд, при разрешении указанной категории дел необходимо руководствоваться Положением о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия и суда, утвержденным Указом Президиума ВС СССР от 18 мая г. 1981 N 4892-X, в соответствии с которым при недостаче, утере либо порче имущества, признанного вещественным доказательством, вред, причиненный органами государственной власти, возмещается только в случае их виновных действий (бездействия).
Приведем пример из судебной практики1. В суде рассматривалось дело о возмещении имущественного вреда гражданину В., причиненного незаконными действиями органов предварительного следствия. Судом было установлено, что гражданину В. принадлежало на праве собственности транспортное средство. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, в момент ДТП автомобилем управлял гражданин Н., в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Постановлением старшего следователя СУ гражданин В. признан потерпевшим по уголовному делу. Автомобиль был признан вещественным доказательством и помещен на хранение на автостоянку. В последующем постановлением следователя СУ уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Автомобиль как вещественное доказательство по делу при передаче уголовного дела фактически ни суду, ни прокуратуре не передавался. При возврате вещественного доказательства законному владельцу было установлено, что транспортному средству был причинен материальный вред, выразившийся в разукомплектовании автомобиля. Причинение имущественного вреда владельцу вещественного доказательства явилось следствием виновных действий следователя СУ. Судом было установлено, что следователь СУ нарушил Положения о хранении и реализации предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела затруднительно, Инструкцию о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам. Судом в ходе рассмотрения дела был сформулирован вывод, что следователь УС в нарушение параграфа 21 Инструкции, не давал письменного поручения о хранении транспортного средства, не была оформлена сохранная расписка при помещении автомобиля на автостоянку, в справочном листе к уголовному делу не сделано отметки о месте хранения вещественного доказательства, что свидетельствует о необеспечении сохранности изъятого имущества, следствием чего явилась возможность его разукомплектования в период нахождения на стоянке. Суд пришел к выводу, что перечисленные противоправные действия следователя лишили собственника транспортного средства возможности установить лицо, которому передавался автомобиль на хранение, и потребовать от него возвращения данного вещественного доказательства. Считаем, что суд вынес обоснованное решение о виновности действий органов государственной власти, повлекших за собой причинение имущественного вреда собствен-
1 Решение Глазовского районного суда Удмуртской Республики от 21.12.2015 по делу N 3177/2015.
~ 189 ~
нику транспортного средства, признанного в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. Суд совершенно верно руководствовался положениями ст. 1069 ГК РФ, а не нормами главы 47 ГК РФ, в данном случае следователь СУ самостоятельно не осуществлял хранение транспортного средства, а значит, отношения, основанные на хранении, в силу закона между органом государственной власти и собственником имущества не возникли. Согласно ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный органами государственной власти и их должностными лицами, подлежит возмещению только при наличии вины. Однако суды при вынесении решения по данной категории дел ошибочно толкуют положения ст. 1069 ГК РФ по аналогии со ст. 1070 ГК РФ, в которой возмещение вреда происходит вне зависимости от вины органов государственной власти и их должностных лиц.
Например, по делу N А56-38228/2013 от 31 октября 2014 г. о причинении материального вреда вещественному доказательству по уголовному делу суд пояснял, что в соответствии со ст. 1069 ГК РФ требование о возмещении ущерба от незаконных действий может быть удовлетворено только в случае, когда доказаны факт причинения вреда, его размер, незаконность действий государственного органа (в данном случае органа следствия), причинная связь между незаконными действиями (бездействием) и наступившим вредом. При этом приведенная позиция суда прямо противоречит точке зрения Конституционного Суда РФ, который в постановлении от 25 января 2001 г. N 1-П указал, что отсутствие в ст. 52 и 53 Конституции РФ непосредственного указания на необходимость вины соответствующего должностного лица или лиц, выступающих от имени органа государственной власти, как на условие возмещения государством причиненного вреда не означает, что вред, причиненный, в частности, при осуществлении правосудия незаконными действиями (или бездействием) органа судебной власти и его должностных лиц, в том числе в результате злоупотребления властью, возмещается государством независимо от наличия их вины. Как пояснил Конституционный Суд РФ, наличие вины – общий и общепризнанный принцип юридической ответственности во всех отраслях права и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. закреплено непосредственно. Так, законодатель в целях обеспечения общеправового принципа справедливости и достижения баланса конституционно защищаемых ценностей и целей установил исключение из указанного принципа вины только применительно к случаям незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного ареста, возмещения государством вреда гражданину и независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (п. 1 ст. 1070 ГК РФ). Следовательно, суд при вынесении решений по рассматриваемой категории дел должен учитывать не только факт причинения вреда, незаконность действий следователя или дознавателя, причинную связь между незаконными действиями (бездействием) и наступившим вредом, но и вину причинителя вреда.
Виновность действий следователя, дознавателя либо работника учреждения, осуществляющего хранение, может выражаться в следующем: незаконное изъятие и присвоение имущества в процессе осуществления следственных действий; утрата либо порча имущества при передаче на хранение профессиональному хранителю; незаконное уничтожение вещественных доказательств; подмена вещественных доказательств их аналогами; отсутствие необходимых документов, подтверждающих количественные и качественные характеристики передаваемого на хранение имущества; внесение недостоверной информации в процессуальные и иные документы, содержащие качественные и количественные характеристики имущества, признанного в качестве вещественного доказательства; неосуществление надлежащего контроля за хранением вещественных доказательств третьим лицом и т.д.
Таким образом, в случае доказанности вины органов государственной власти и их должностных лиц, ответственных за порчу, утрату либо недостачу вещественных доказательств, подлежат применению положения ст. 1069 ГК РФ. Однако если следователь, дознаватель действовали в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и иными указанными выше нормативными правовыми актами, определяющими правила и порядок хранения вещественных доказательств, то следует констатировать правомерность их действий, направленных на обеспечение сохранности изъятого имущества.
Считаем, что если имущественные права законного владельца нарушены вследствие несоблюдения условий хранения вещественных доказательств, что привело к их порче, утере либо недостаче, то следует обратиться с требованием о возмещении материального вреда к юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю на основании заключенного контракта, так как именно профессиональный хранитель несет гражданско-правовую ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по договору хранения. Например, при изъятии крупной партии табачных изделий в качестве вещественного доказательства по уголовному делу следователь или дознаватель должны обеспечить сохранность имущества, его признаков и свойств, имеющих значение для установления обстоятельств по уголовному делу. Органы следствия либо дознания, не являясь профессиональными хранителями, не могут осуществить надлежащую сохранность изъятого либо переданного имущества в соответствии с требованиями ГОСТ 1505-2001 и ГОСТ 3935-2000, ГОСТ 7823-2000, которые определяют правила транспортировки и хранения табачных изделий. В связи с этим орган, проводивший изъятие имущества в качестве вещественного доказательства, обязан в силу положений ст. 82 УПК РФ заключить договор хранения табачных изделий с профессиональным хранителем. Следовательно, если профессиональный хранитель в процессе осуществления хранения допустит нарушение условий хранения согласно установленным требованиям, то именно его противоправные действия повлекут за собой причинение имущественного вреда законному владельцу переданного имущества.
Как было указано выше, между государственным органом, изъявшим имущество в качестве вещественного доказательства, и профессиональным хранителем складываются отношения, регулируемые гражданским законодательством, а именно главой 47 ГК РФ. Необходимо отметить, что стороны договора хранения в соответствии с Конституцией РФ и положениями уголовно-процессуального законодательства заключают соглашение не только в интересах следствия, но и в интересах третьего лица (законного владельца изъятого имущества). Законный владелец имущества в рассматриваемых правоотношениях выступает в качестве выгодоприобретателя по договору хранения вещественных доказательств согласно ст. 430 ГК РФ. В соответствии с данной статьей профессиональный хранитель осуществляет хранение вещественных доказательств не в пользу поклажедателя (органа следствия либо дознания), а в пользу законного владельца имущества, который может требовать надлежащего исполнения договора, а также передачи имущества на основании соответствующего постановления следователя или дознавателя о возврате имущества, признанного вещественным доказательством его владельцу. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей по договору хранения и при отсутствии противоправных действий (бездействия) со стороны органов государственной власти и их должностных лиц законный владелец имущества должен обращаться с требованием о возмещении причиненного имущественного вреда к профессиональному хранителю (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю) на основании ст. 430 ГК РФ и ст. 891 ГК РФ. При этом органы государственной власти могут быть привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований в порядке гражданского судопроизводства по делам о возмещении имущественного вреда, связанным с порчей, недостачей или утратой вещественных доказательств.
Полагаем, что в целях решения выявлен- ных проблем следует внести изменения в постановление Правительства РФ от 8 мая 2015 г. N 449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам», закрепив в его содержании: «В случае если хранение вещественных доказательств осуществляется юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем на основании договора хранения, ответственность за ненадлежащее хранение вещественных доказательств лежит на хранителе при отсутствии вины со стороны органа, осуществившего изъятие имущества в качестве вещественного доказательства».
Список литературы Хранение вещественных доказательств по уголовному делу: вопросы теории и практики
- Бакаева, О.Ю. Ответственность таможенных органов и их должностных лиц: вопросы судебной практики / О.Ю. Бакаева // Судья. -2018. - N 9. - С. 40-44.
- Гаврилов, М.А. Судьба транспортных средств - вещественных доказательств по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 326 УК / М.А. Гаврилов, А.Ю. Алешин // Законность. -2021. - N 5. - С. 62-66.
- Головкин, О.Е. Отсутствие ущерба для доказывания как условие передачи вещественных доказательств на хранение / О.Е. Головкин // Алтайский юридический вестник. - 2015. - N 2(10). - С. 81-83.
- Зяблина, М.В. Изъятие имущества, не принадлежащего на праве собственности лицам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование / М.В. Зяблина, Е.В. Великая // Законность. - 2021. - N 1. - С. 48-51.
- Ершов, О.Г. К вопросу о противоправности в действиях (бездействии) следователя при ненадлежащем хранении вещественных доказательств / О.Г. Ершов // Вестник арбитражной практики. - 2018. - N 3. - С. 65-72.
- Ларин, Е.Г. Хранение транспортных средств - вещественных доказательств при производстве по уголовному делу / Е.Г. Ларин // Законодательство и практика. - 2017. - N 1. - С. 17-20.
- Поветкин, Е. Ответственность государства "за несохранность" изъятого имущества не является деликтной (комментарий к постановлению Президиума ВАС РФ от 9 июля 2009 года N 2183/09 / Е. Поветкин // Хозяйство и право. - 2012. - N 7 (426).