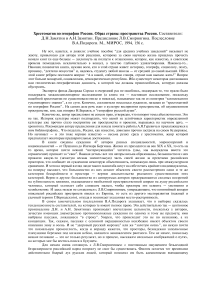Хрестоматия по географии России. Образ страны: пространства России
Автор: Мещеряков Александр Николаевич
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Путеводитель
Статья в выпуске: 1, 1999 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911696
IDR: 14911696
Текст статьи Хрестоматия по географии России. Образ страны: пространства России
Ну вот, кажется, и дожили: учебное пособие “для средних учебных заведений” вызывает не зевоту, привычную для автора этой рецензии, которому за свою научную жизнь пришлось прочесть немало книг (и еще больше — захлопнуть на полпути к оглавлению, которое, как известно, в советские времена помещалось исключительно в конце), а чувство глубокого удовлетворения. Наконец-то... Наконец появляется книга, нужная всем, кто в этой стране живет: историку, географу, социологу, поэту, прозаику, “деятелю искусства” и, надеюсь, студенту любой школы — от средней до самой высшей. Ибо в этой книге ребром поставлен вопрос: “А в какой, собственно говоря, стране нам выпало жить?” Вопрос этот больше монархий, социализмов, демократических республик. Ибо существует некоторая доставшаяся нам геологическо-географическая данность, к которой мы должны приспособиться, которую должны обустроить.
Эксперты фонда Джорджа Сороса в очередной раз не ошиблись, поддержав то, что нужно было поддержать: междисциплинарное исследование (а книга эта — настоящее исследование, поскольку подобной хрестоматии не существовало нигде и никогда), называемое так не из поветрия “комплексного гуманитарного знания”, а по сути. Конечно, составители несколько лукавили, называя ее “хрестоматией по географии России”.. На самом деле речь идет о культуре восприятия пространства, об одушевленном пространстве, или, как говорил Н.Бердяев, о “географии русской души”.
Конечно же, автор предисловия не совсем прав, утверждая, что поворот темы абсолютно нов. Это не так. Историк культуры может подтвердить, что одной из устойчивых характеристик определенной культуры уже прочно стало восприятие ею пространства и времени, выражаясь на научном арго, — хронотопа. Рекомендую автору предисловия для начала почитать работы А.Я.Гуревича и прилагающуюся к ним библиографию... Что поделать, Россия, как известно, довольно прочно застряла на своем бездорожье. Но начинает — и это тоже хорошо известно — весьма резво: сразу с хрестоматии, жанр которой предполагает некоторые предварительные достижения.
В книге сведены суждения 47 авторов разных специальностей, мировоззрений и национальностей — от Пушкина до Ингмара Бергмана. Жизни их приходятся на век XIX и XX, то есть на то время, которое почти всякий “интересующийся” читатель (увы, мы вынуждены ввести это ограничение) признает за “свое”. Важная деталь: все эти авторы весьма образованны, большинство из них прожили какую-то (зачастую весьма значительную) часть своей жизни за пределами российских просторов, что сообщает их суждениям некоторую объективность, возможную лишь при межкультурном сравнении. И хотя на первый взгляд люди такого масштаба несут на себе печать крайнего индивидуализма, на поверку выходит, что большинство из них делают объектом своего рассмотрения одни и те же категории бескрайности и простора — верное доказательство реального существования этих категорий. Верно и другое: большинство из цитируемых авторов придерживаются сходных воззрений на губительность влияния, оказываемого необъятной пространственной ширью на душу российского человека, который осознает себя слишком малым, чтобы просторы эти освоить — умственно и хозяйственно. И здесь нельзя не согласиться с Л.В.Смирнягиным, утверждающим, что понятийный аппарат описателей российских пространств явился из Европы, то есть из другого месторазвития (важный и удачный термин Г.Вернадского), откуда и возникает указанная место-растерянность.
В своем замечательном послесловии В.А.Подорога указывает, что в выборке сказалась тенденциозность составителей, на которую те имеют полное право. Это действительно так — центонное произведение Д.Н. и А.Н. Замятиных производит впечатление цельности, поскольку у авторов, зачастую имеющих диаметрально противоположные суждения по одному и тому же предмету, ими выбраны пассажи, ложащиеся “в строку”. Уверен, что происходит это не по незнанию, а из концепции. Так, скажем, пассажи с сезонной окрашенностью неизбежно имеют объектом своего описания зиму и осень. И не “здоровый русский морозец” или же “золотую осень”, но некую почти что похмельную промозглость, когда и вправду кажется, что просторы, безнадежно заполненные плачущими березами под низким небом, являются эквивалентом рвотного. Тем не менее, поскольку всякое познание — это не только результат, но и процесс, выскажем несколько соображений о путях, на которых мог бы вестись поиск в будущем.
Для начала снова соглашусь с Л.В.Смирнягиным: с постоянным ощущением безысходной безразмерности российский народ попросту не смог бы существовать. Фактом остается тот временами действительно бодрый дух русских людей, который позволял им быть адекватными вмещающему ландшафту, где им пришлось действовать. Л.В.Смирнягин не смог найти надежных источников для реконструкции народного восприятия пространственных реалий. И пословицы, и иные формы фольклора кажутся ему скорее началом, унифицирующим народное восприятие в культуре разных народов, чем свидетельствами его специфичности. И если мы можем согласиться с суждением относительно пословиц (а они действительно имеют, как правило, всекультурный характер и к тому же внутри данной культуры одну и ту же ситуацию могут толковать прямо противоположным образом), то сказка, эпос, ритуал, песня, народная утопия, изобразительное “искусство”, устройство отдельного жилища и целой деревни, вышивка, способ хозяйствования, да и многое другое дают нам ключи к реконструкции такого восприятия пространства, которое может быть признано “народным”. А ведь существует еще и современная массовая культура, имеющая в подсознании далеко не то пространство (одна из его сторон — городское “пространство наслаждения”), которому можно только ужаснуться.
В хрестоматии не представлено восприятие пространства как составной части официальной государственной идеологии. А такое восприятие, между тем, очень важно: культура не бывает монолитной, в понятии культуролога она — совокупность всех общественно значимых представлений, идей, социальных мифов 1. У неподготовленного читателя может создаться впечатление, что приведенная составителями выборка есть истина в последней инстанции. Действительно, эта выборка в значительной степени репрезентативна — но только для характеристики определенного умонастроения определенной социальной группы в определенное время. Слово “социальный” на сей раз, как и ранее, употреблено с некоторой навязчивостью, но не случайно. По нашему глубокому убеждению, восприятие пространства у авторов хрестоматии сильно коррелирует с их восприятием социальной действительности, их недовольством ею. Будучи в российской традиции последних двух веков основой мировоззрения вообще, это недовольство диктует общую желчность, желание реформировать все — и даже сузить простор, сделать его более соразмерным представлениям о пространственной гармонии, которые черпаются на Западе, достигшем намного больших успехов в обихаживании околотелесного пространства (чего так не хватает российской цивилизации и культуре). В причитаниях по поводу гнилого климата и душевысасывающего простора есть нечто от органического свойства российской интеллектуальной элиты, идущего еще от вульгарного материализма и такого же фатализма: человек плох потому, что он вынужден жить в собачьих условиях. Как говорится, “среда заела”. Среда — это действительно много. Но раз уж мы договорились о том, что обладаем хоть какой-то свободой воли, то и давайте ею попробуем воспользоваться.
А книгу советую прочесть. И дело не в том, кто более прав, а кто — менее. В конце концов, это вопрос веры. Дело опять же в процессе познания, процессе, в котором все мы участвуем на равных правах. И только так достигается стереоскопичность.
Список литературы Хрестоматия по географии России. Образ страны: пространства России
- Мещеряков А.Н. Homo soveticus: покорение пространства и времени//Угол зрения. Отечественные востоковеды о своей стране. М., 1992.