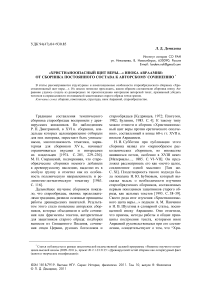«Христианоопасный щит веры…» Инока Авраамия: от сборника постоянного состава к авторскому сочинению
Автор: Демидова Лариса Денисовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник: от средневековья к новому времени
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются структурные и композиционные особенности старообрядческого сборника «Христианоопасный щит веры…». Их анализ позволил проследить, каким образом составителю сборника иноку Авраамию удалось создать из разнородных по происхождению материалов авторский текст, призванный убедить читателя в справедливости отстаиваемой защитниками старого обряда точки зрения.
Сборник, композиция, структура, инок авраамий, старообрядчество
Короткий адрес: https://sciup.org/14737583
IDR: 14737583 | УДК: 94(47).04+930.85
Текст научной статьи «Христианоопасный щит веры…» Инока Авраамия: от сборника постоянного состава к авторскому сочинению
Традицию составления тематического сборника старообрядцы восприняли у древнерусских книжников. По наблюдениям Р. П. Дмитриевой, в XVI в. сборники, владельцы которых целенаправленно отбирали для них материал, перестают быть уникальными, многоплановость тематики, характерная для сборников XV в., начинает ограничиваться вкусами и интересами их владельцев [1974. С. 205, 229–230]. М. Н. Сперанский, подчеркивая, что старообрядческие сборники немного добавили к древнерусскому наследию, выделил их в особую группу и отметил как их особенность полемическую направленность и религиозно-догматическую тематику [1963. С. 116].
Дальнейшее изучение сборников показало, что старообрядцы, являясь продолжателями традиции, развили основные принципы работы древнерусских писателей. Результатом этого стало появление авторских сборников, которые объединили в себе сочинения или фрагменты текстов, авторитетные для защитников старого обряда: подборки выписок из Священного Писания, сочинения отцов Церкви, русских богословов и старообрядцев [Кудрявцев, 1972; Плигузов, 1982; Буланин, 1983. С. 4]. К такому типу можно отнести и сборник «Христианоопасный щит веры против еретического ополчения», составленный в конце 60-х гг. XVII в. иноком Авраамием.
Н. И. Субботин при публикации этого сборника назвал его «первообразом раскольнических сборников, во множестве явившихся потом, особенно в XVIII веке» [Материалы…, 1885. С. VI–VII]. Он предложил рассматривать его как «нечто целое, соединенное одной мыслию» [Там же. С. XI]. Плодотворность такого подхода была показана Н. Ю. Бубновым, который высказал мысль о необходимости изучения старообрядческих сборников, составленных первым поколением защитников старого обряда, как цельных текстов [1995. С. 38–39]. Своего рода итог изучения «Христианоопасного щита веры…» подвели А. М. Панченко и Н. В. Шухтина в словарной статье, посвященной иноку Авраамию. Они отметили, что приемы, методы работы и общие принципы построения текста, которыми инок Авраамий руководствовался при его составлении, «свидетельствуют о том, что “Хри- стианоопасный щит веры” представляет собой единое по замыслу произведение. <...> Это – один из образцов старообрядческой книги как историко-литературного жанра» [СККДР, 1992. С. 33]. Р. Крамми совершенно точно охарактеризовал «Христианоопасный щит веры…» как «библиотеку или архив» раннего старообрядчества, подчеркнув, что сборник имеет «энциклопедический характер» [Crummey, 1995. S. 128–129].
Исследователи обращали внимание на некоторые особенности «Христианоопасного щита веры…», которые позволяют представить работу инока Авраамия как составителя и редактора сборника, но ни его структура, ни композиционные особенности не подвергались детальному рассмотрению. Их анализ, как представляется, позволил бы проследить, каким образом инок Авраамий, составляя сборник, сумел превратить его в авторское сочинение.
«Христианоопасный щит веры» известен в двух списках 1, датируемых третьей четвертью ΧVΙΙ в. Первый из них публикатор сборника Н. И. Субботин определил как автограф, а второй охарактеризовал в качестве неполного, так как в нем нет начала, содержащего первые два прозаических и два стихотворных предисловия, а также глав 21–24, 37–46, а 36 глава не завершена [Материалы…, 1885. С. XIII]. В 1990 г. Л. В. Титова, исследовавшая объяснительную записку дьякона Федора, входящую в состав «Христианоопасного щита веры…» в качестве 26-й главы, ввела в научный оборот сборник второй половины XVIII в., содержащий отдельные главы из «Христианоопасного щита веры…» 2 [Титова, 1990]. Несмотря на то что список из собрания Мазурина более поздний, ряд прочтений в нем представляется более правильным, нежели в списках XVII в., в то же время во многих местах текст явно испорчен. На основании этого наблюдения Л. В. Титова сделала вывод, что списки из Синодального собрания и собрания Уварова имели общий протограф, а список из собрания Мазурина восходит к другому протографу [Там же. С. 214].
К сожалению, в данный момент мы не имеем достаточно веских оснований, чтобы решить вопрос об автографе или протографе сочинения. Синодальный список является наиболее полным и позволяет в достаточной мере получить представление о замысле составителя, поэтому он привлекается нами для анализа структуры и композиционных особенностей «Христианоопасного щита веры…». Сборник состоит из 46 глав, но в оглавление включены названия только 33-х. Главы 34–41 пронумерованы непосредственно в тексте, а заключительные главы (с 43 по 46) не имеют нумерации и переписаны другим почерком, нежели остальной сборник, их оформление отличается от принятого в основном тексте. По предположению Н. И. Субботина, первоначально Ав-раамий не намеревался включать их в «Христианоопасный щит веры…» [Материалы…, 1885. С. X].
Единство тексту сборника придают два прозаических и два стихотворных предисловия 3. Характер предисловия носит также первая глава сборника, о чем в ее тексте имеется указание. Стихотворные предисловия, помещенные в «Христианоопасном щите веры…», по смыслу дублируют прозаические: они были призваны ярче и полнее раскрыть идеи, выраженные в прозаических предисловиях. Появление стихотворных предисловий в сборнике инока Авраамия может свидетельствовать о том, что он сознательно ориентировался на традицию изложения в стихах содержания наиболее авторитетных сочинений, которая сложилась к середине XVII в. в кругах книжников, близких московскому Печатному двору [Савельева, 2008. С. 122, 127].
Для того чтобы лучше представить замысел инока Авраамия, обратимся к анализу прозаических предисловий. По тематике они сходны между собой. В первом, озаглавленном «Предисловие к читателю верному, содержащее ответы противу хулениям на святых русских» (л. 2–3) 4, акцент сделан на характеристике современной автору ситуации. Полагая, что настали последние, «лютыя времена», инок Авраамий стремился указать читателю на признаки, свидетельствующие, на его взгляд, о наступлении царства антихриста: «неции от иноверных <…> хулением своим помрачити кусятся сия наша добродельныя звезды (имеются в виду русские святые. – Л. Д.), отъемлющеи ово святыню, овожь православие» (л. 2).
В таком контексте сборник Авраамия приобретал особое значение. Как подчеркивается в первом предисловии, он был составлен как «ответ наш православной» на «богопротивное прение» со стороны поддержавших реформы, начатые патриархом Никоном. Оппоненты ярко охарактеризованы иноком Авраамием как «грекове прелестницы, причастницы и сообшницы костелу римскому, и ересоначальник приемницы, проповедники и разширители антихристова царства» (л. 2 об.).
Второе прозаическое предисловие названо так: «Ино предисловие, сказующее вкратце силу книги сея». В нем автор дал самую общую характеристику содержания сборника и помещенных в нем материалов. Авраамий считал, что читатель найдет в нем «не един образ списания, но различная и многообразна сочинена», а именно: «евангельскую истину, предобре рассуждаему свидетельствы святых… и наставление всякое, руководящее чтущаго на стезя добродетелей. Аще ж кто желает и освящению вы-сочайшу богословных учений, ниже сих непричастна его книжка ставит, но при-обильне угостит его. <…> И противу греко-римлян новоявленного безверия и бесовска-го учения домашних еретиков, воюющих церковь, також возвеселит его…» (л. 5 – 5 об.).
Характеристики содержания сборника не случайно облечены в такую витиеватую форму. Она явно была призвана дать читателю представление о помещенных материалах, в числе которых были отрывки из Священного Писания, сочинения или фрагменты сочинений отцов Церкви, русских авторов, писавших на богословские темы, выписки из старопечатных книг московской и киевской печати и, разумеется, сочинения ранних старообрядческих авторов, в том числе и самого инока Авраамия.
Здесь следует упомянуть о тех условиях, в которых создавался «Христианоопасный щит веры…». К 1667 г., которым Авраамий датирует начало своей работы над сборником 5, московская община старообрядцев оказалась обезглавленной – ее лидеры подверглись опале и были сосланы. Авраамий, как предположили исследователи, стал хранителем архива московских старообрядцев, который был отобран у него при аресте и затем бесследно пропал [Материалы…, 1885. С. VIII; Бубнов, 1995. С. 139]. Материалы этого архива, очевидно, и вошли в сборник. В связи с этим необходимо отметить, что сам Авраамий во втором предисловии «вкратце» определил свой труд как «хранилище некое… духовное, преполнено всякими благодатми и исцеленми духовными» (л. 5 об.), которое адресовано «не точию иноком», но всем «уверенным истинне». При этом он не только подчеркнул авторитетность самих текстов, включенных в «Христианоопасный щит веры…», но и дал читателю понять, что доставшийся ему архив собирался людьми, чье мнение высоко ценилось защитниками старого обряда, поскольку находилось в полном соответствии со Священным Писанием и Преданием: «Избранными Божиими от избранных пред-ложися и избрася праведне, по последованию евангельской истинны» (там же).
Краткая характеристика вошедших в «Христианоопасный щит веры…» материалов призвана была также раскрыть, почему сборник носит именно такое название – «Христианоопасный щит веры против еретического ополчения». Во втором предисловии автор замечает, что все включенные в сборник тексты направлены на «опасение (т. е. защиту. – Л. Д. ) от мерзости запустения» (л. 5), а самое главное их назначение – стать для читателя действенным средством «противу греко-римлян новояв-леннаго безверия и бесовскаго учения домашних еретиков, воюющих Церковь, а также… противу многоглавных никониян-ских ересей…» (л. 5 об.).
Первая глава сборника, как было отмечено выше, также носящая характер предисловия, является компилятивной и представляет собой переработку одного из предисловий «Книги о вере», вышедшей в Москве в 1648 г. и приобретшей большую популярность среди читателей, а также ставшей одной из авторитетных книг для защитников старого обряда. Текст, составленный в совершенно иных исторических условиях, инок Авраамий сумел актуализировать в современной ему ситуации 6. Глава носит название «О преизряднейших правоверных сложениях» (т. е. основаниях, установлениях) 7, и ее содержание суммирует все те мысли и рассуждения, которые уже были высказаны Авраамием в двух предисловиях. В подзаголовке главы составитель перечислил некоторые конкретные материалы, вошедшие в «Христианоопасный щит веры…»: «от Божественного Писания собрано вкратце, из книги Правыя веры, и большаго Кати[хи]сиса, и Фотия митрополита, и от Максима Грека» (л. 6). Если учесть, что сама глава является переработкой текста упомянутой «книги Правыя веры», то ее положение в сборнике является двойственным: она подводит итог всем «предисловным сказаниям» и одновременно является первым из авторитетных текстов, помещенных в сборнике и должных создать «христианоопасный щит».
Таким образом, уже в предисловиях составитель сборника попытался донести до читателя мысль, что материалы, помещенные в сборник, служат одной цели и, не смотря на принадлежность разным авторам, все вместе составляют единый текст. Их разнородность является, согласно замыслу Авраамия, не недостатком, а достоинством сборника: даже самый взыскательный «верный читатель», по его мнению, должен был найти в «Христианоопасном щите веры…» нужное ему сочинение. Кроме того, эта разнородность является как раз признаком того, что текст сборника нужно рассматривать как единый. Инок Авраамий считал, что собранные материалы предоставят защитникам старого обряда возможность дать отпор «еретическому ополчению».
Объединение в одном сборнике разнородных по происхождению и тематике текстов роднит его с древнерусской традицией составления сборников, что обусловило свободную, на первый взгляд, структуру «Христианоопасного щита веры…». Тем не менее, как отмечалось выше, главы сборника инок Авраамий снабдил нумерацией. Это может свидетельствовать о том, что он придавал структуре сборника важное значение. Но для того, чтобы выяснить, идет ли речь об определенной композиции и есть ли логика в последовательности текстов, или нумерация глав является механической, необходимо обратиться к анализу тем, которым посвящены отдельные главы.
Общий круг тем, затрагиваемых в текстах «Христианоопасного щита веры…» определен составителем в заключении первой главы: «Сих ради вин аз, мний, яже во-мнех нужнейшая о вере православной, о Церкви восточней и о изряднейших вещех правоверия нашего, к сим же и отступлении противных главизными вкратце изобразити» (л. 9). Конкретные, важнейшие для защитников старого обряда темы были отчетливо представлены в заголовках глав. Это актуальные вопросы, которые находились в то время в центре внимания общества. В связи с расколом в РПЦ обсуждалось состояние восточного православия в целом, положение в Русской Церкви. В «Христианоопасном щите веры…» нашли отражение споры о форме крестного знамения, аллилуйе, тексте Символа веры, об исправлениях в богослужебных книгах. Считая, как уже было отмечено, церковный раскол верным признаком «антихристова пришествия», несколько глав Авраамий посвятил эсхатологической теме. Поднимались также вопросы, касающиеся повседневного поведения «истинно верующих», в частности общения с «отсупника-ми» в «последние времена».
Все эти темы были для защитников старого обряда тесно взаимосвязаны, поэтому нередко в рамках одной главы обсуждалось несколько тем, но обозначенная в заголовке была центральной. Отсюда вытекает характерная черта сборника, роднящая его с древнерусскими принципами построения текста: тематика отдельных глав многократно дублируется, но, как правило, не за счет углубления темы, а за счет увеличения числа аргументов (ссылок на авторитетные тексты) для доказательства ранее сформулиро- ванной мысли. Эта особенность является ключевой для понимания композиционной организации сборника.
На нескольких ярких примерах попытаемся показать, как она проявляется. Прежде всего обратим внимание на вторую, третью и четвертую главы сборника. Вторая глава носит название «О честнем кресте Христове, о ношении его на персех своих, еже есть щит крепости от лица вражия». По-видимому, она принадлежит самому Авраа-мию. В ней автор рассматривает круг вопросов, связанных со смыслом и символикой крестного знамения и приводит в подкрепление большое количество цитат, в основном принадлежащих богословам эпохи Вселенских соборов, а также фрагменты из Евангелия и Апостола.
Следующая, третья, глава также посвящена теме крестного знамения и представляет собой обширную выписку из «Большого Катихизиса» (отрывки из его второй и третьей глав). Очевидно, что функциональная роль этого текста та же, что и множества мелких выписок, приведенных в предыдущей главе, но он представлялся составителю сборника настолько важным и авторитетным, что был оформлен в качестве отдельной главы. Четвертая глава «Почему позна-вати еретики» составлена из фрагментов третьей главы «Большого Катихизиса». Таким образом, вопросы, которые Лаврентий Зизаний, составитель «Большого Катихизи-са», считал взаимосвязанными (о крестном знамении и о еретиках), Авраамий счел необходимым рассмотреть в двух отдельных главах. Очевидно, это было сделано для того, чтобы при помощи авторитетного текста усилить и подчеркнуть особое значение той и другой темы. В то же время составителю сборника удалось сохранить их взаимосвязь, поскольку они обе подкрепляли мысли, высказанные во второй главе. Таким образом, можно говорить о том, что вторая глава играла для третьей и четвертой роль структурообразующей.
Еще более заметна внутренняя связь между главами, если обратить внимание на семнадцатую главу, которая названа «На проклятый Никонов собор» и посвящена Поместному собору РПЦ 1653 г. Связь с соседней восемнадцатой главой в которой помещен текст Повести Симеона Суздальского, подчеркнута однотипным названием в оглавлении – «О Флоренском проклятом соборе». Сопоставляя события, между кото- рыми прошло свыше двухсот лет, Авраамий провел между ними аналогию. Это позволило ему распространить резко отрицательную оценку, данную русским обществом Ферра-ро-Флорентийскому собору, на собор 1653 г., который защитники старого обряда считали началом реформ. Кроме того, семнадцатая глава напрямую отсылала читателя к тексту Симеона Суздальского, сообщая, что о «Флоренском треклятом съезде» «на-преди во иной главизне слово явити имать» (л. 67 – 67 об.).
Подобные ссылки в 17-й главе имеются также на 19-ю (слово Максима Грека «о книжном исправлении»), 22-ю («О Удоне епископе Магдебурском повесть трепетная и умилительная») и 25-ю («Моление от лица озлобленных чад церковных ко царю державному о умирении святыя церкви») главы. По-видимому, эти тексты, согласно замыслу Авраамия, призваны были подкрепить его основную мысль, выраженную в семнадцатой главе, о том, что начиная с собора 1653 г. «церковь Божия гонение терпит, бед и напастей, и раздоров, и несогласия, и мятежа исполнена… благочестие ис корени исторгается» (л. 67 об.). Такое положение Русской Церкви, как посчитал автор, предвидел еще Максим Грек. Инициатору перечисленных бед патриарху Никону Ав-раамий предрек судьбу епископа Удона, для большей наглядности поместив в сборник популярное сказание о нем.
Подобные примеры можно продолжить, но уже приведенные показывают, что композиция сборника была весьма продуманной и максимально способствовала достижению полемических целей, поставленных автором сборника. Общий принцип организации «Христианоопасного щита веры…» в целом напоминает принцип построения его отдельных глав, написанных самим иноком Авраамием. В каждой такой главе он стремился привести как можно больше авторитетных цитат для подтверждения точки зрения защитников старого обряда. В сборник он тоже считал необходимым включить наибольшее количество авторитетных текстов, которые, по его мнению, могли бы послужить аргументами при защите права оставаться в оппозиции к нововведениям. Эти тексты Авраамий выстроил хотя и не в жесткой тематической последовательности, но соблюдая совершенно очевидную для читателя логическую связь между ними.
Чтобы сборник стал авторским сочинением, инок Авраамий использовал и другие средства. Неотъемлемой частью «Христианоопасного щита веры…» являются не только охарактеризованные нами выше структурообразующие главы, но и авторские комментарии к чужим (а иногда и к своим) текстам. Эти комментарии самим составителем названы «пристижениями». Еще Н. И. Субботин обратил внимание на связующую, структурообразующую роль «пристижений» в сборнике Авраамия [Материалы…, 1885. С. IX]. «Пристижения» очень хорошо вписываются в рассмотренные выше композиционные особенности «Христианоопасного щита веры…». Как и структурообразующие главы, они служили смысловой связкой между отдельными текстами. «Пристижения» иногда выполняли роль предисловия, иногда – послесловия к помещенным текстам, а также могли быть помещены в середину текста. Совершенно очевидно, что Авраамий стремился, благодаря этим комментариям, направить внимание читателя в определенное русло, стараясь сделать изложенную в главе мысль более ясной. Рассмотрим несколько таких случаев.
Помещенное в конце второй главы «при-стижение» подводит итог сказанному в ней и объясняет, с какой целью она написана: «Ведомо да будет ти, возлюбленне, яко не всуе главизну сию на противников о животворящем кресте Господни написах, но сих ради вин, да увеси, яко не от умышлений человеческих крест почитаем, но от века изображен, последи же кровию Христовою освящен, яко едина святая Церковь истинно изображает крест Христов, и благочестно почитает, и покланяется, и хвалится и украшается им, яко о нем вси святии к Богу приведении быша и спасошася, яко велицей благодати сподобихомся крестом Господним…» (л. 13).
В другом «пристижении», которое заключает пятую главу, носящую название «Свидетельства от божественных церковных писаний о православных церковных догматех», Авраамий уже не только резюмирует содержание, но и дополняет сказанное в ней примерами, а затем, для подкрепления своих слов, отсылает читателя к авторитетным текстам: «И от сего, бого-словцы реша, велика ересь возрастает в Церкви, якоже Максим в 13-м слове пишет.
Такожь и в книге Большаго Катихисиса, в главе на листу, – яко единим азбучным словцом ересь вносится, нежели многими не в чин поставляемыми и под анафему подла-гает таковая творящих» (л. 24 об.). Указанные в «пристижении» авторитетные тексты помещены в двух соседних главах: в предыдущей, четвертой, содержались выписки из Большого Катихизиса о еретиках, а следующая, шестая, состояла из 13-го слова Максима Грека «О еже како подобает известно блюсти исповедание православныя веры».
Сходную функцию выполняет «присти-жение» к 12-й главе, носящей название «Слово ответное от лица православных чад церковных противу отступников, собравшихся на правоверие». В этом «пристиже-нии» составитель указал на конкретные примеры искажения церковных обрядов и изменение богослужебных текстов сторонниками Никона (эта тема была затронута в самой главе). Текст «пристижения» завершается фразой «И проче внимай» (л. 56). Таким образом Авраамий осуществил переход к 13-й главе под названием «О пестроте новых книг», тем самым показав связь двух помещенных в этих главах текстов. Главы 12, 13 и 14 представляют собой отдельные небольшие сочинения дьякона Федора [Бубнов, 1995. С. 64–65] 8. В 14-й главе была продолжена и получила развитие одна из тем, затронутая в 12-й главе, поэтому Ав-раамий дал ей название: «Ино сказание православное о сложении перстов». Возвращаясь к вопросу о тематической связи глав, отметим, что 13 и 14-ю главы можно рассматривать как своего рода «конспект» 12-й главы, дополняющий ее основные положения новыми примерами и авторитетными выписками-цитатами.
Следует подчеркнуть, что роль «присти-жений» в составе сборника не ограничилась только тем, что они были важными структурообразующими элементами, придающими разнородным текстам определенную целостность. Они позволяют прояснить и позицию составителя, поскольку в них сформу- лировано его отношение к тем или иным вопросам, рассматриваемым в сборнике. Например, после сочинения Максима Грека под названием «Слово на Исаака жидовина, волхва, и чародея и прелестника» (гл. 7), следует «пристижение», в котором характеристика, данная Максимом Греком еретику Исааку, перенесена на патриарха Никона: «Глаголю же Никона еретика, и волхва, и чародея и прелестника, и иконоборца, паче же богоборца, Богу тако попустившу того» (л. 29 об.). Далее Авраамий поясняет, почему Никон удостоился подобного сравнения, и переходит от критики личности патриарха к критике состояния Русской Церкви. Этот комментарий дает возможность прояснить, с какой целью составитель включил данное сочинение Максима Грека в сборник.
«Пристижения», естественно, очень тесно связаны с теми текстами, к которым они относились. Иногда комментарий даже мог восприниматься как его продолжение. Так, окончание 9-й главы (слово Иоанна Златоуста) и следующее за ней «пристижение» в двух идентичных по содержанию сборниках (один из которых датируется, предположительно, второй половиной XVIII в. 9, а другой – столетием позже 10), последующими поколениями старообрядцев воспринимались как единый текст 11.
Рассмотренные нами композиционные и структурные особенности сборника характерны для первых 33-х глав. Несколько по-иному организованы главы 34–41 и 43–45, не вошедшие в оглавление. Характерная особенность этих глав – та, что они составляют два ярко выраженных тематических блока – один из них целиком «эсхатологический», посвященный толкованию фрагментов из Откровения Иоанна Богослова, второй – цикл из сочинений, вышедших из под пера Соловецких книжников (4 и 5 челобитные и «Сказка» Соловецкого монастыря). Эти главы вошли в сборник позже времени составления основной его части. По предположению Н. И. Субботина, в ходе работы над «Христианоопасным щитом веры…» Авраамий «получил несколько новых, интересных для него статей, которые также начал вносить в сборник» [Материалы…, 1885. С. X]. Вероятно, по замыслу составителя, эти главы должны были стать своего рода приложением к основному тексту. Включенные на последнем этапе сочинения развивали темы, так или иначе затронутые в 33-х главах, поэтому они органично вписались в структуру сборника и стали его неотъемлемой частью.
Изложенные наблюдения над структурой и композицией основной части сборника, как представляется, находят подтверждение, если сравнить списки Син. 641 и Ув. 805 с более поздним списком Маз. 532. Его неизвестный составитель выбрал из «Христианоопасного щита веры…» только одно предисловие и 22 главы, дополнив их другими сочинениями инока Авраамия и дьякона Федора, а также более поздними старообрядческими текстами. Обратим внимание на то, что порядок расположения глав здесь иной, нежели в списках Син. 641 и Ув. 805 12.
Хотя композиция Мазуринского сборника довольно свободна, составитель счел необходимым поместить рядом главы, в которых наиболее четко проводится одна из нескольких основных тем «Христианоопасного щита веры…». В качестве примера можно привести 17, 32 и 29-ю главы, в которых обличаются участники «неправедных» поместных соборов РПЦ 1653 и 1666– 1667 гг. В списке из собрания Мазурина эти тексты следуют один за другим, составляя единый блок.
Более сложной выглядит в Мазуринском списке композиция первых шести глав. В первые две вошли тексты посланий дьякона Федора и инока Авраамия, представляющие собой самостоятельные произведения, не вошедшие в «Христианоопасный щит веры…». Далее помещены собственно главы из сборника в таком порядке: 21-я («О вопрошении священнодиякона Федора нечестивых властей»), 26-я («О послании в заточение и нестерпимом мучении диякона Федора», 27-я (о страдании пустозерских узников), 36-я (в этом списке, в отличие от Синодального списка она имеет заголовок «Сказание известное о церковных догматех священнодиякона Федора»). Как можно убедиться, составитель сборника счел необ- ходимым поместить рядом тексты, которые дали бы читателю возможность составить необходимое представление о творческом наследии дьякона Федора (для чего он привлек дополнительные материалы), а от них он перешел к главам, повествующим о его судьбе и судьбе пустозерских узников.
В нескольких случаях составитель сборника при композиционной организации материала опирался на указания самого Авраамия, который тот дал в своих «при-стижениях». Так, в Син. 641 и Ув. 805 списках в конце 24-й главы, представляющей текст поучения митрополита Фотия, находится «пристижение», в котором Авраамий выражает свое мнение о том, следует ли «благочестивым» молиться вместе с «нечестивыми». «Пристижение» завершается фразой: «Хотящим же избыти от прелести правоверным христианом правила повелевают в домех молитися, иже от многих малая и на среду принесем на ином месте» (л. 171 об.). Эта фраза отсылала читателя к 33-й главе, в которой помещены апостольские правила, разрешающие «неверных ради еретик» молиться по домам (л. 196). В Маз. 532 глава 33-я следует непосредственно за 24-й, предлагая читателю тот авторитетный текст, к которому апеллировал Авраамий в «пристижении».
Приведенные примеры показывают, что в сборнике Маз. 532 тематический принцип нашел более последовательное воплощение. Тем не менее нельзя не отметить, что в подавляющем большинстве случаев неизвестный поздний составитель-старообрядец, определяя композиционное расположение глав, руководствовался логикой, заложенной в «Христианоопасном щите веры…» иноком Авраамием, устанавливая более явную связь между разнородными его частями там, где сам Авраамий оставил отсылки и намеки.
Анализ структуры и композиции «Христианоопасного щита веры…» показывает, что они оказались достаточно эффективными для достижения основной задачи, которую ставил перед собой составитель. Ему важно было собрать воедино тексты, написанные к этому времени защитниками старого обряда, а также отобранные ими фрагменты из Священного Писания, апостольских правил, сочинений отцов Церкви, русских богословов, выписки из богослужебных книг. Эта книга должна была под- вести итог длительной дискуссии со сторонниками церковной реформы, начатой патриархом Никоном, и убедить читателей в справедливости отстаиваемой защитниками старого обряда точки зрения. Эта задача достигалась путем не только искусного отбора материала, но и продуманного его расположения, а также при помощи структурообразующих глав и «пристижений». Благодаря этому Авраамию удалось создать единый текст, в котором каждая глава напрямую – через отсылки или неявно – путем дублирования определенной мысли, оказывалась связанной с другими. Повторение одних и тех же тем в определенной последовательности не должно было оставить у читателя сомнений в убедительности изложенной точки зрения.
Хотя первоначально Авраамий намеревался включить в сборник 33 главы, новые материалы, вошедшие в «приложение», как нельзя лучше дополнили его замысел. В них затрагивались самые животрепещущие на тот момент темы. Помещенные в самом конце «Христианоопасного щита веры…» Соловецкие челобитные оказались у Авраа-мия практически сразу же после их создания, когда актуальность рассматриваемых в них вопросов продолжала оставаться достаточно острой. Таким образом, Авраамий не только воспользовался доставшимися ему материалами архива московской старообрядческой общины, но, как можно видеть, предпринял усилия для того, чтобы получить самые новые сочинения, содержащие развернутую аргументацию защитников старого обряда.
Таким образом, инок Авраамий стал не только одним из основателей «старообрядческой культурной системы» (по выражению Р. Крамми [Crummey, 1995. S. 137– 138]), очертив круг тем, образов и авторитетных текстов, которые успешно будут развиваться и использоваться следующими поколениями старообрядцев, но и одним из зачинателей старообрядческой книжной традиции – традиции авторского полемического сборника 13. Сборник производил впечатление цельного текста и стал восприниматься как авторское сочинение. Возможно, из-за того, что результат проделанной Ав-раамием работы оказался настолько фундаментальным, а объем сборника внушительным, копирование «Христианоопасного щита веры…» для старообрядцев было делом трудновыполнимым, хотя авторитет инока Авраамия на протяжении нескольких столетий был очень высок. Во множестве списков разошлась его Челобитная, в которой Авраамий более сжато изложил основные положения этого основательного сочинения.
«THE CHRISTIAN’S SECURE SHIELD OF FAITH» («KHRISTIANOOPASNYI SHCHIT VERY») BY THE MONK AVRAAMII: FROM A COMPILATION TO AN ORIGINAL WORK