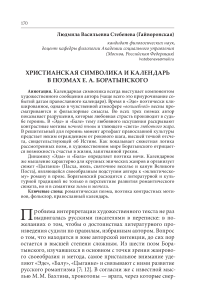Христианская символика и календарь в поэмах Е. А. Боратынского
Автор: Стебенева Гайворонская Людмила Васильевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.12, 2014 года.
Бесплатный доступ
Календарная символика всегда выступает компонентом художественного сообщения автора (чаще всего это приурочивание событий датам православного календаря). Время в «Эде» поэтически клишированное, однако в чувственной атмосфере «волшебной» весны просматриваются и фольклорные смыслы. Во всех трех поэмах автор показывает разрушения, которые любовная страсть производит в судьбе героинь. В «Эде» и «Бале» тему любовного искушения раскрывают контрастные мотивы ночной тьмы и тлеющего «света» любовного жара. В решительный для героинь момент артефакт православной культуры предстает неким ограждением от рокового шага, высшей точкой отсчета, свидетельствующей об Истине. Как показывает сюжетная логика рассмотренных поэм, в художественном мире Боратынского отрицается возможность счастья в жизни, запятнанной грехом. Динамику «Эды» и «Бала» определяет поэтика ночи. Календарное же мышление характерно для крупных эпических жанров и организует сюжет «Цыганки» (Пасха, июль, святочное веселье и канун Великого Поста), являющейся своеобразным подступом автора к «эклектическому» роману в прозе. Боратынский расходится с литературной и культурной традицией не только в перспективе развития романтического сюжета, нои в семантике зимы и метели.
Романтическая поэма, поэтика контрастных мотивов, фольклор, православный календарь
Короткий адрес: https://sciup.org/14748889
IDR: 14748889
Текст научной статьи Христианская символика и календарь в поэмах Е. А. Боратынского
Пр облема интерпретации художественного текста не раз выдвигалась русскими писателями в переписке: в пожеланиях о том, чтобы о достоинствах литературного произведения судили по правилам, избранным автором. Вопрос о том, что находится в зоне авторской интенции, до сих пор остается в высшей степени сложным. Из шести поэм Боратынского, изучавшихся в основном с точки зрения жанрового своеобразия и метода, самое пристальное внимание уделяют «Эде», «Балу», «Цыганке» и связывают с ними развитие русского романтизма [7; 12]. В согласии же с известной мыслью М. М. Бахтина, хронотопы — врата, через которые свер- шается «всякое вступление в сферу смыслов» художественной системы автора [1, 406]. А потому в плане понимания текста и точки зрения автора особенно актуально выявление семантики временных помет в художественных произведениях и соотнесение авторского «календаря» с фольклорной и христианской концептосферами [4; 7; 3; 9]1.
«Эду», «Бал» и «Наложницу» Боратынский писал, отталкиваясь от Пушкина, и особенно подчеркивал эту разность окончательными (вторыми) редакциями поэм. Так, в редакции «Эды» 1835 года Боратынский сознательно отходит от усвоенного русской литературой романтического канона [12, 165–170]. Усилия автора в целом возвращают сюжет поэмы к ситуации идиллии, в которой порочный человек из цивилизованного мира разрушает бытие неиспорченного народа, сеет зло и вносит смятение в простую и ясную жизнь2.
Итоговая простота поэмы была не только результатом поздней авторской шлифовки, но обусловлена и ее временными рамками. Сезонных упоминаний в тексте мало. Две временные координаты знаменуют начало и конец истории: «счастливая» любовь-страсть летом (все косвенные признаки указывают на это: полдневный зной, густая сень дубровы сонной 3 и т. д.) и горестный ее финал зимой. Описание могилы Эды за оградой кладбища вообще без временных примет. Развитие событий предсказывается в ситуации обольщения, в которой автор сравнивает героиню с розой, доверившейся первым весенним лучам и не ожидающей мертвящего хлада :
Завёл он кротко с нею речь;
Внимала слабым сердцем ей, — Так роза первых вешних дней Лучам неверным доверяет: Почуя тёплый ветерок, Его лобзаньям открывает Благоуханный свой шипок И не предвидит хлад суровый, Мертвящий хлад, дохнуть готовый 4 .
В сравнении, выступающем своего рода сюжетной программой, обозначены эти временные полюсы (весна / зима), заложена и конечная «идиллическая» простота, к которой пришел автор. Итог грустной истории упреждается еще одним элегически-цветочным5 [15] сравнением, но высказанным уже самой героиней в летний полдень «счастливой» любви. На одном из свиданий у любимого ручья Эда предрекает и свою гибель, глядя на сорванный цветок, брошенный в быстрый ток любовником: «Так, — прошептала, — и меня, / Миг полелея, полаская, / Так на погибель бросишь ты!» (239). Определенно, временные рамки и поэтические формулы сближают сюжет поэмы с идиллией и отчасти — с элегией, в которых упражнялись поэты 1810–1820-х гг. Сюжетное время в поэме соответствует этому поэтически клишированному времени: вкрадчивые первые слова гусара к Эде были произнесены в лучах вешнего солнца, а семя соблазна «проросло» цветущей весной , которая для Эды стала страшной:
Желанья смутного заботой, Ты освежительной дремотой Уж не сомкнешь своих очей; Слетят на ложе сновиденья, Тебе безвестные досель, И долго жаркая постель Тебе не даст успокоенья. На камнях розовых твоих Весна игриво засветлела?
Своею негою страшна Тебе волшебная весна (231).
Трепет героини сосредоточен на так знаменательно определенном времени отрывка — волшебная весна, которое вполне возможно соотнести с «русальной» — «гряной» — неделей, наступающей по народному календарю с 12 мая по 14 июня [14, 77–78; 17]. Фольклорные смыслы прочитываются в силу яркой этнографической окраски избранного места действия — деревушки, затерянной в дремучих лесах Фин- ляндии, а еще и потому, что в Предисловии к поэме автор упоминает о привлекших его внимание нравах и обычаях... Народные обычаи и обряды русальной недели имели, как известно, подчас и эротический характер, отображающий прежде всего плодотворящую силу весенней природы. (К «русальной неделе», кстати сказать, близки по времени и летние фольклорные праздники с любовной семантикой — Аграфена Купальница (23 июня), Иван Купала (24 июня), Петр и Феврония (25 июня). Пик любовной страсти в поэме приходится на лето, автор рисует множество потаенных приютов: «В густой рябиновой сени / Над быстро льющимся потоком / Они садятся на траву. <…> Дух притаив, она внимает / Дыханью друга своего; / Древесной веткой отвевает / Докучных мошек от него» (239).) Атмосфера искушения как будто растворена в воздухе: Своею негою страшна.
Однако и в согласии с «авторским поведением» Боратынского [18], «волшебная весна» в «Эде» наделена устойчивыми чувственными коннотациями. В художественном мире Боратынского это не частое определение взаимодействует с мечтами, кистью, мигом, шептанием леса, праздником 6 … А в следующей за «Эдой» романтической поэме «Бал» этот эпитет трижды соотнесен автором с любовной негой: в призыве страшиться (!) «прелестницы опасной» (искусительницы Нины): «Не подходи: обведена / Волшебным очерком она»; и в объяснении Арсения любовь Нины названа волшебной . В лирике Боратынского волшебным чаще всего определяются мечты . Однако в русле восточнохристианской традиции мечтание рассматривается как искус, подступ к греху. И в этой связи показательно еще одно упоминание волшебного в «Бале»: автор сравнивает своевольно мечтающую Нину («ласкала с упоеньем / Одно видение своё») с волшебницей во время свидания с одним из «счастливцев»: «Так чародейка иногда / Себе волшебством тешит очи» (251)…
Помимо семиосферы волшебного тема любовного искушения в «Эде» в полной мере раскрывается в поэтике контрастных мотивов («Слетят на ложе сновиденья, / Тебе безвестные досель, / И долго жаркая постель / Тебе не даст успокоенья» (231)). В приведенных строфах ночная тьма и свет исподволь контрастируют в образе жаркой постели. Ближайшие традиционные поэтические «родственники» упомянутого света — пламя, огонь любовной страсти: «… порой наедине / К груди гусара вся в огне / Бедняжка грудью припадает». Но свет от этого пламени (Полна неведомого жара (237)) тлеющий, плотский, темный: почти синоним тьмы. В этом смысле вспоминаются евангельские слова, сказанные совсем по другому случаю, однако, связывающие душевное с телесным: «…смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?» (Лк. 11:35).
Автор представляет любовь Эды, вызванную «романтическими» ужимками хитреца-гусара, губительным искушением от лукавого: «Но вправду враг ему едва ль / Не помогал: с такою силой…» (236), — в догадке автора; «Оставь меня, лукавый дух !» (там же) — в тщетном взывании самой героини. Искушения от лукавого особенно сильны ночью, и героиня страшится утаившегося порока в безднах своей души: «И, страсти гибельной полна <…> А в ночь бессонную, одна, / Одна с раскаяньем напрасным , / Сама волнением ужасным / Души своей устрашена » (233). Как убеждаемся, комплемен-тарность внешнего и внутреннего (душевного) мрака характерна не только для поэм Боратынского. Эта авторская логика просматривается и в стихотворении «Толпе тревожный день приветен» (1939), в котором исследуется подобный ночной страх перед «своевольными мечтами», а легкокрылые грезы симптоматично (в перспективе эротических коннотаций ‘волшебного’ в поэмах Боратынского) называются детьми волшебной тьмы . Знаменательно, что условный знак встречи любовников, на которой потом и произошло падение Эды, связан не только с наступлением мглы, но и с ее усилением-множественностью: «лишь мраки ночи низойдут» (235). Мотив тьмы - затемнения - невидения повторяется и в эпизоде перед разлукой после горестной и томительной ночи: «Она стоит, мутна очами» (241). Автор на протяжении своего рассказа сочувствует Эде, но все безнадежно для исправления и как будто уже предрешено…
В согласии с логикой элегического начала поэмы, разлука героев произошла осенью: во множестве элегий 1810–1820-х годов обыгрывается мотив осеннего увядания [15] и сожале- ния о прошедшей любви весенне-летней. Автор поэмы этот момент не уточняет, за сценой расставания следует временная лакуна, а печальный финал истории наступает уже зимой. Печаль Эды, высказывавшаяся ею не раз по поводу греховности любви, доходит в финале поэмы до предела отчаяния. Без жизни чувств, без огня в очах, «как небо зимнее, бледна» (241), Эда призывает смерть, как будто снежные сугробы и смерть помогут охладить любовный жар. Картина кладбища предстает вообще без каких-либо временных ориентиров. Единственное, что проясняет грустный этюд одинокой могилки за оградой пустынного кладбища: героиня не дождалась конца, а ускорила его.
Во всех трех «повестях» автор исследует разрушения, которые любовная страсть (а в «Эде» и «Бале» — грех) производит сначала в душе, а потом и в судьбе героинь. В решительный для героинь момент предмет-артефакт православной культуры предстает неким ограждением от рокового шага, какой-то высшей точкой отсчета, свидетельствующей об Истине. Автор как будто «напоминает» своим героиням о вечном: Эде — Библией, а Нине — иконой. Но какого-то чувства им «не хватает», чтобы уйти от погибели. Так, суровые укоризны отца Эды ассоциативно связываются в сознании читателя и с высшим долгом — с заповедями Отца Небесного в Библии, которую в этот момент пытается читать тоскующая о «днях сердечной чистоты» героиня. Святая книга в руках Эды предупреждает о падении, но и не может оградить от него: Эда уже как бы «не видит» святых словес — рассеянно перебирает ее измятые листы… В следующем эпизоде, слушая коварные речи гусара о «предстоящем отъезде», Эда прижимает Святую книгу к груди и силится оградиться от греха. Эта деталь не случайна, и эпизод этот не является тривиальной обрисовкой традиций. Подобная ситуация возникает и в «Бале».
Именно «перед иконой золотой» Нина «сдержала страшный свой обет». Казалось бы, чисто бытовая подробность: образ висит в спальне, как и положено тому быть. (Отметим, как тепло и по-родному интимно описание укромного уголка с образами.) Однако икона — свидетель жизни несчастной
Нины и, возможно, ее своевольных любовных грехов, свидетель и последнего, самого страшного греха7. Самоубийство Нины перед святым образом ужасно потому, что главное назначение его — напоминать о доме Отчем, вещать о жизни другой: вечной, горней. Под сомнение ставится момент борьбы с грехом в присутствии иконы (как у Эды), однако возможность такая намечена. Именно у святого угла произносит наставленье «мамушка седая»: «Ты позабыла Бога... да, / Не ходишь в церковь никогда; / Поверь, кто Господа оставит, / Того оставит и Господь» (263). Слова няни — отчасти и приговор сочувствующего автора.
В этой связи значимо отсутствие календарных вех в развитии действия в «Бале». Автору в проникновении в сердечные глубины помогает испытанный ранее в «Эде» опыт соподчинения внутреннего и внешнего. А потому динамика настоящего в «Бале» выстраивается контрастными мотивами: ночной мглы и блеска, блистанья светской жизни / души, затемненной и ослепленной страстью, и имплицитного «света» любовного жара. Эти мотивы уже отмечались в ранней «Эде», но в «Бале» они представлены в превосходной степени. Первоначальное название поэмы — «Бальный вечер ». Неслучайно, что почти все события в поэме происходят в темное время суток: княгиня как бы и живет «в часы томительные ночи». Ночь царствует и в чувственном сумраке покоев Нины: «Был втайне убран кабинет, / Где сладострастный полусвет , / Богинь роскошных изваянья, / Курений сладких лёгкий пар — / Животворило все желанья , / Ливало в сердце томный жар » (253). (В этой зарисовке вновь фигурирует чувственный (от тлеющих курильниц) и томный свет , созвучный со словом «темный».) Автору важно показать тьму сердечных глубин на фоне внешнего мрака и плотский «темный» свет, исходящий от жара любовной страсти, испепеляющей героиню. Знаменательно, что экспозиция «Бала» — «глухая полночь», освещенная уличными фонарями, а трагическая финальная кульминация — глубокая ночь в спальне Нины в печальном лампады свете, спорящем с темнотой. Этот царящий мрак, по сути, онтологический — это отчаяние решившейся на самоубийство Нины. При свете лампады видится
Христианская символика и календарь в поэмах Е. А. Боратынского 177 мертвенным свет блистания нарядов, символизирующих светскую суету. Этому мертвому блистанью противопоставляется живой и неожиданный свет лампады, как момент истины. Несомненно, авторское внимание к контрастам света и тьмы самым точным образом раскрывает поэтику романтического (а возможно — онтологического) конфликта поэмы. И из всех трех «повестей» «Бал» — более всех романтическая поэма.
Что касается времени календарного, события поэмы возможно «датировать» опосредованно через бальную и традиционную культуры России XIX века [5]. С большой долей вероятности можно утверждать, что время действия в поэме зимнее — сезон балов8. Семантика зимы в русской культуре связана с праздниками Рождества (25 декабря) и Святок (с 25-го декабря по крещенский сочельник — 5 января). Святки знаменовали окончание Рождественского поста (Филиппо-вок) и открывали зимнее веселье, которое продолжалось потом до Масленицы. Забавы этого зимнего периода имели исключительно матримониальный характер: посиделки и игры молодых ребят и девчат, на которых искали и находили жениха или невесту [8, 12]... В соответствии с фольклорными святочными традициями находились и зимние светские увеселения — балы, маскарады, игры на вечерах, начинавшиеся с рождественской елки в царском доме и продолжавшиеся повсеместно. Типичной иллюстрацией к светской жизни этой эпохи является письмо Н. В. Путяты к Боратынскому (февраль, после 14, 1827 года) с живописанием зимнего Петербурга: «Нышнею зимою, особенно перед постом, наша столица отличалась веселиями и светским шумом; при дворе было много праздников, балов и театры в Эрмитаже…» [11, 190].
Предположение о том, что трагедия под названием «Бал» разыгрывается зимой, а ее финал приходится на исход зимы, подтверждает и роковое для Нины известие, что на бальный вечер приедут «молодые» — Арсений с Ольгой. На Руси большинство свадеб игралось в зимний мясоед, и своеобразный итог этому времени подводила Масленица — праздник проводов зимы и величания молодоженов. По всей видимости, финал поэмы — окончание бального зимнего сезона.
Хроносные границы «Бала» перекликаются с временной логикой поздней «Цыганки», в которой автор открыто акцентирует такое же завершение бально-маскарадного веселья и близкое наступление Великого поста. Понятно, что изображая похороны несчастной Нины, Боратынский отстраняется от описания балов, однако косвенные детали («Богатый гроб несчастной Нины, / Священством пышным окружён, / Был в землю мирно опущён» (264)) отдаленно намекают на конец зимы — начало весны, возможно, и на начало Великого поста: светская жизнь из бальных залов направляется в русло гостиничных толков9. Сюжет поэмы замкнут в границах ночи и в кольце светских сплетен о главной героине «Бала». Только весть о смерти Нины передается теперь «узаконёнными словами»: СЛОВО рассеивается многократным эхом «томного жужжанья», «шумного говора» на похоронах, слухами, наконец, молвой об изобретенных на этот случай стишках (обедавшим в доме княгини поэтом), осевшей на «законной» странице дамского журнала…
Если в «Эде» (1824–1825) и «Бале» (1825–1828) многочисленные упоминания времени суток и поэтика ночи определяют динамику сюжета, то в «Цыганке» (1829–1830, первоначальное название поэмы — «Наложница») стройный сюжет укладывается в почти календарный год. Собственно, календарное мышление характерно для крупных эпических жанров, особенно для романа прозаического. Весьма любопытно, что в 1829 году (во время работы над «Наложницей») Боратынский пытался сочинить «эклектический» роман в прозе, в котором мечтал идеально синтезировать «спиритуализм» и «материализм» и тем самым достичь «полноты» повествования [11, 37]. С замыслом романа связана и последняя поэма, в которой, по собственному признанию Боратынского, ему удалось реализовать принцип «эклектичности» в характерах и диалогах. Интересно и то, что в письме к Пу-тяте (конец июня начало июля, 1831) Боратынский сам «род поэмы», «исполненной движения», сравнивает с романом в прозе [11, 262]. А потому по широте изображенных картин светской жизни по канве календаря последнюю поэму Боратынского в жанровом отношении возможно рассматривать и как подступ к роману в стихах.
Особенно важно то, что автор акцентирует временные вехи значимых событий. Так, завязка поэмы приурочена к Пасхе: на гулянии в Новинском на Светлой седмице Елецкий встречает Веру Волховскую, напомнившую ему идеал его разборчивой весны . И этот глубоко душевный идеал из прошлого резонирует с весенним временем события из внешней жизни героя. Неслучайно избранные автором название места встречи — Новинское и имя — Вера , не говоря уже о знаковом времени — Пасхе , намечают возможность нравственного обновления и воскресения героя, который при всем хладном своем отчуждении от света (традиционная «поза» романтического персонажа) осознает свое падение и имеет высокие идеалы («В душе сберёг он чувства пламя. / Елецкой битву проиграл, / Но, побеждённый, спас он знамя / И пред самим собой не пал» (280)). «Полюбив своё страданье», герой всюду следует за Верой, и однажды в свете угасающего июльского дня случай — поднятая Елецким перчатка — дарит ему минутное сближение с милой. Автор не задерживает рассказ о любовном томлении героя и пресекает «сомнительное счастье мгновенных, бедных этих встреч» осенним ненастьем, традиционно элегическим. Основное действие и кульминация поэмы приходится на уже отмеченный разгар зимнего веселья: на маскараде состоялся разговор героев, заинтриговавший Веру, а утром следующего дня — тяжелое объяснение с цыганкой Сарой, после которого открываются истинные запросы Елецкого и причина его разочарования в любви цыганки: «Уж он желал другого счастья: / Души, с которой мог бы он / Делиться всей своей душою. / Надеждой тёмной увлечён, / Он Саре пробовал порою / Передавать свои мечты; / Но образованного чувства / Язык для дикой красоты / Был полон странной темноты» (289).
В «Цыганке» Боратынский вводит читателя в заблуждение известными литературными ходами, однако разрушает созданные иллюзии. Так, автор, в тоне предупреждающих сентенций «Эды», рассказывает о счастливом обновлении в любви и Веры: «Девица юная не знала, / Живого счастия полна, / Что так доверчиво она / Одной отравой в нём дышала» (293). Вопреки всем предположениям Елецкий предлагает
Вере руку «на союз святой и вечный», и целью романтического побега ночью должно было стать венчание. Однако авторское слово «сбывается» роковым, воистину романтическим, образом: отравлен Елецкий, а любовное чувство — «приветный ветерок» — оказалось для Веры, как и было предсказано, «грозы погибельный пророком» и опустошило ее жизненный путь. По трагической случайности задуманное венчание не состоялось. В текстовой реальности «венец» возникает в параллельной с согласием Елецкого и Веры сцене, в которой старая цыганка Ненила обещает отчаявшейся Саре зельем вернуть любовь: «Лишь дай испить, сама увидишь! / Он обвенчается с тобой, / И заживёшь ты госпожой» (300). Однако посулы «пророчицы» оказались ложными и для Сары...
Измененное название поэмы открывает иной уровень авторского восприятия романтизма. Первоначальным вариантом — «Наложница» — автор указывал на истинно романтический характер поэмы — Сару (и в согласии с традиционной национальной экзотикой, и по силе и неистовству страстей), хотя ранее и обнаруживал, что романтическое поведение может быть игрой (гусар в «Эде»), а может быть и ситуативным (охлаждение Арсения от размолвки с Ольгой в «Бале»). В окончательном же названии — «Цыганка» — за персональным смыслом романтизма (Сара) проявляется и всеобщий. И в данном случае романтизм, по мысли автора, — трагический и беспощадный для всех персонажей рок, слепым орудием которого стала старая цыганка. И этому есть объяснение.
В преддверии судьбоносного шага — побега, на который решается Вера, герои неоднократно вспоминают о приближающемся Великом посте и считают дни, отведенные на встречи, не могут примириться с долгой разлукой и, наконец, приходят к взаимному согласию. Годовой круг почти замыкается: за постом ожидается Пасха, с которой и началось сюжетное действие. Счастливые ожидания Елецкого от встречи с Верой в этих пасхальных рамках обещают воскресение героя. (Тема нравственного обновления героя поддерживается мотивом льющегося золотого света из окна. Так, в экспозиции поэмы после буйного ночного молодецкого пира Елецкий всматривается в мир, исполненный живым и торжествующим светом: «Пред ним, светло озарена / Наставшим утром, ото сна / Москва торжественно вставала. <…> Огнем востока Кремль алел. / Зажгли лучи его живые / Соборов главы золотые…» (276–277)10. Второй раз чувство возрождения к жизни герой испытывает в такой же ситуации (утром перед окном) после подающего надежду разговора с Верой на маскараде: «Едва весёлыми лучами / День новый окна озлатил <…> Во взорах счастье выражалось; / Перед душой его, казалось, / Летал весёлый, светлый сон. / Через мгновенье пробуждённый / Он, тем же чувством озарённый…» (285). И снова у Боратынского явна связь внешнего (золотистый свет солнечных лучей) и внутреннего (озаренный). В самых разных культурных традициях золото означает нетление, отчуждение от смерти, принадлежность вечности. Например, в иконе вещественная/материальная инаковость золота, которым отделываются нимбы и фон, символизирует нетварный вечно сущий Свет, с которым связывается и Воскресение.) Однако, как показывают финалы и сюжетная логика рассмотренных поэм, в художественном мире Боратынского отрицается возможность счастья в жизни, запятнанной грехом. Елецкий даже накануне побега, предвкушая венчание с Верой, с трудом и досадой вспоминает о Саре и не может убедить себя в том, что ее страсть к нему неискренна… Парадоксально, что прижизненные критики поэм, обвинявшие поэта в безнравственности тем и изображенных героев, подвергавшие остракизму само название — «Наложница», не увидели в поэмах Боратынского сурового нравственного закона, репрезентированного на уровне сюжетов.
Еще одним оригинальным и неожиданным «ходом» Боратынского представляется семантика метели. Кстати сказать, метель знаменует и начало зимы в «Цыганке» («Пришла зима. / Свистя, крутится / Метель на Пресненских прудах…» (282)). Дважды она упоминается и в ночь побега, которая должна была стать венчальной для Елецкого и Веры. И эта несбывшаяся перспектива отражает со знаком «минус» любовно-матримониальную семантику метели в русской куль-туре11 [13]. Проказливый и судьбоносный характер русской метели наиболее ярко демонстрирует творчество Пушкина
[2, 80–132], аккумулирующее и развивающее литературные идеи своего времени. Впервые антитеза литературной традиции обнаруживается в шуточных сокрушениях Боратынского по поводу несвойственных северным людям маскарадных забав зимой: «Метелей дух не создал нас / Для их блистательных проказ…» (283). Но главное противопоставление заключается в том, что в «Цыганке» намеченное венчание не состоялось в эту метельную ночь12. В эпизоде напрасного ожидания Веры лишь «суровый и холодный» ветер дует ей навстречу, вздымая метель по кровлям, а его акустический эффект — вой и свист — придает улице особую пустынность. Этот ветер как будто материализуется из предупреждающей метафоры и начинает опустошать «жизни путь» Веры.
Понятно, что светские увеселения в «Бале» и «Цыганке» календарно отражают русскую зимнюю традицию, однако это не значит, что собственные смыслы зимы у Боратынского отсутствуют. Во всех трех «повестях» Боратынского зима имеет трагический «смертельный» колорит: в жалобах Эды зима отождествляется со смертью; после зимнего бала отравляется ядом Нина; Вера Волховская после всех потрясений и потерь в финале поэмы предстает холодной, как зима... Как показывает опыт подобных разысканий в семантике времени в художественном мире Пушкина [3], лирика всегда переводит в план содержания первичное авторское восприятие фундаментальных измерений мира, в том числе пространства и времени, и является своеобразным семантическим ключом к прозе и эпическим стихотворным жанрам. В этом смысле саркастическая зарисовка стихотворения «Филида с каждою зимою» 1838 года уже зрелого Боратынского может прочитываться как возможная перспектива «Бала». Оно построено на оксюморонном контрасте любовной страсти (семиотизированной в имени древнегреческой богини любви — Афродиты) и близкой смерти (в эпитете ‘гробовая’) [16]: «Филида с каждою зимою, / Зимою новою своей, / Пугает большей наготою / Своих старушечьих пле-чей. / И, Афродита гробовая, / Подходит, словно к ложу сна, / За ризой ризу опуская, / К одру последнему она» (180).
Таким образом, календарная семантика всегда выступает компонентом художественного сообщения автора (это почти всегда символика времен года, и особенно — приурочивание событий датам православного календаря), более того, дает возможность приблизиться к пониманию интенции автора. В календарной символике «авторское поведение» проявляется самоочевидным образом и независимо от избрания художественного метода или жанра.
Примечания
За последние два десятилетия было проведено несколько таких календарных исследований русской классики, см., к примеру, работы В. Н. Захарова [4], В. А. Кошелева [7], Л. В. Гайворонской [3], Э. С. Лебедевой [9] и др..
Безусловно, этот ход ранее был использован Пушкиным в «Цыганах», причем без оглядки на «Эду» Боратынского. Как известно, до выхода в печать полного текста «Эды» Боратынский опубликовал отрывок из нее, и поэма полностью или в отрывках была известна друзьям-поэтам, приводилась в письмах, и только Пушкин из Михайловской ссылки с конца 1824 года и весь 1825 просил друзей прислать, переписать «Эду». См., к примеру: Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т. / Сост. М. А. Цявловский (1799 — сент. 1826), Н. А. Тархова (сент.1826 — 1837) / Отв. ред. Я. Л. Левкович. М.: Слово-Slovo, 1999. С. 462, 465, 468, 556 и т. д..
Микроцитаты приведены без кавычек и выделены курсивом. Далее в закавыченных цитатах курсив наш — Л. С.
Баратынский Е. А . Полное собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1957. С. 228–229. Далее все цитаты приводятся по этому изданию с указанием номера страниц в круглых скобках за текстом.
Подробно о распространенных в жанре элегии формулах мгновенных цветочных увяданий см. в работе О. А. Проскурина [15].
По причине ограниченности объема статьи не приводим здесь все контексты волшебного у Боратынского.
По учению святых отцов, самоубийство — дошедшее до предела отчаяние, когда оставляется молитва и упование на Бога. В цепи семи смертных грехов оно занимают самую последнюю ступень.
Летом торжествовались балы, но с меньшим размахом, чем зимой. По большей части в это время светское общество разъезжалось из столиц по поместьям и заграничным курортам.
По всей видимости, хроносная установка двух последних поэм Боратынского повлияла на беловую редакцию «Евгения Онегина» 1833 года: Пушкин убрал все приметы бального разгула и наполнил действие восьмой главы шумом «разумных толков». Характерно, что Великий пост у Боратынского в финале «Цыганки» эксплицирован, а в пушкинском романе в стихах — сокрыт. В. А. Кошелев проницательно предположил, что исповедальное объяснение Онегина и Татьяны происходит на Страстной седмице [7, 149].
Эту выразительную сцену, намечающую восстание героя от греховной жизни, отметил еще во втором номере «Европейца» Киреевский в своем «Обозрении русской литературы за 1831 год», посвященном в большей степени «Наложнице». См. [11, 268].
Сюжет венчания в метельную ночь широко представлен в русской классике, начиная от «Светланы» Жуковского и «Метели» Пушкина и продолжая многочисленными реминисценциями и мотивами метели-судьбы, к примеру, в романах: «Доктор Живаго» Пастернака, «Пути Небесные» Шмелева и др..
Признаться, у автора этого исследования поначалу сложилось впечатление, что «метельный» ход Боратынского в «Цыганке» был сознательным отталкиванием от «белкинской» повести Пушкина. Однако выяснилось, что Пушкин и Боратынский «познакомили» друг друга уже с готовыми текстами, и на настоящий момент не известны какие-либо факты, доказывающие обсуждение творческих замыслов Пушкиным и Боратынским в переписке. Так, написанная в очень краткие сроки «Наложница» («Цыганка») впервые упоминается в письме Плетнева, которое датируется октябрем 1829 года. А уже в ноябре 1830 года Погодин в письме к Шевыреву говорит о «Цыганке» Боратынского («повесть в восьми главах») как завершенной. И только в декабре того же 1830 года, после холерной эпидемии, Пушкин встречается с Боратынским в Москве. Друзья щедро делятся написанным: Пушкин читает вслух «Повести Белкина», над которыми, по его словам, Боратынский «ржет и бьется», и рассказывает о маленьких трагедиях, о последней главе «Онегина» [10, 1170]. Боратынский, в свою очередь, знакомит Пушкина с «Наложницей» [11, 247–248]… Так что пушкинская «Метель» не была известна Боратынскому в период его работы над «Наложницей» («Цыганкой»). Это было очередное расхождение Боратынского с литературной традицией, собственная оригинальность, которые он демонстрирует и в других случаях. Являлось ли это расхождение сознательным — вопрос последующих разысканий.
Lyudmila Vasil’yevna Stebeneva (Gayvoronskaya)
Список литературы Христианская символика и календарь в поэмах Е. А. Боратынского
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М.: Худ. лит., 1975. 502 с.
- Гайворонская Л. В. Семантика времен года в художественном мире А. С. Пушкина: Учеб. пособие для вузов. Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. 196 с.
- Гайворонская Л. В. Семантика календаря в художественном мире Пушкина (дни недели, времена года): Дис.. канд. филол. наук: 10.01.01; Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. А. А. Фаустов. Воронеж: Б. и., 2006. 242 с.
- Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского//Новые аспекты в изучении Достоевского: Сб. науч. тр./Отв. ред. В. Н. Захаров; ПетрГУ. Петрозаводск, 1994. С. 37-49.
- Захарова О. Ю. Русский бал XVIII -начала XX века. Танцы, костюмы, символика . URL: http://flibusta. net/b/276168/read (дата обращения 26.05.2014).
- Киреева Н. В. Автор в поэмах Е. А. Баратынского. Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1994. 172 с.
- Кошелев В. А. Евангельский «календарь» пушкинского «Онегина» (к проблеме внутренней хронологии романа в стихах)//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 1994. С. 131-150.
- Круглый год. Русский земледельческий календарь/Сост., вступ. ст. и примеч. А. Ф. Некрыловой; ил. Е. М. Белоусовой. М.: Правда, 1991. 496 с.
- Лебедева Э. С. Пушкин и даты церковного календаря//Духовный труженик. А. С. Пушкин в контексте русской культуры. СПб.: Наука, 1999. С. 74-80.
- Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т./Сост. М. А. Цявловский (1799 -сент. 1826), Н. А. Тархова (сент. 1826 -1837); Отв. ред. Я. Л. Левкович. М.: Слово-Slovo, 1999.
- Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. 1800-1844./Сост. А. М. Песков. М.: Новое литературное обозрение, 1998. 496 с.
- Манн Ю. В. Динамика русского романтизма. М.: Аспект Пресс, 1995. 384 с.
- Нагина К. А. Метельные пространства русской литературы (XIX -начало XX века). Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. 129 с.
- Пропп В. Я. Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического исследования). Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1963. 143 с.
- Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 462 с.
- Рудакова С. В. «Филида с каждою зимою» в контексте книги стихов «Сумерки» Е. А. Боратынского//Дергачевские чтения -2011.
- Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: Мат-лы Х Всерос. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения И. А. Дергачева: В 3 т. Екатеринбург: Урал. ун-т, 2012. Т. 2. С. 323-328.
- Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX -нач. XX в. М.: Наука, 1979. 287 с.
- Фаустов А. А. Авторское поведение в русской литературе: Середина XIX века и на подступах к ней. Воронеж, 1997. 108 с.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М.: Худ. лит., 1975. 502 с.
- Гайворонская Л. В. Семантика времен года в художественном мире А. С. Пушкина: Учеб. пособие для вузов. Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. 196 с.
- Гайворонская Л. В. Семантика календаря в художественном мире Пушкина (дни недели, времена года): Дис.. канд. филол. наук: 10.01.01; Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. А. А. Фаустов. Воронеж: Б. и., 2006. 242 с.
- Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского//Новые аспекты в изучении Достоевского: Сб. науч. тр./Отв. ред. В. Н. Захаров; ПетрГУ. Петрозаводск, 1994. С. 37-49.
- Захарова О. Ю. Русский бал XVIII -начала XX века. Танцы, костюмы, символика . URL: http://flibusta. net/b/276168/read (дата обращения 26.05.2014).
- Киреева Н. В. Автор в поэмах Е. А. Баратынского. Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1994. 172 с.
- Кошелев В. А. Евангельский «календарь» пушкинского «Онегина» (к проблеме внутренней хронологии романа в стихах)//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 1994. С. 131-150.
- Круглый год. Русский земледельческий календарь/Сост., вступ. ст. и примеч. А. Ф. Некрыловой; ил. Е. М. Белоусовой. М.: Правда, 1991. 496 с.
- Лебедева Э. С. Пушкин и даты церковного календаря//Духовный труженик. А. С. Пушкин в контексте русской культуры. СПб.: Наука, 1999. С. 74-80.
- Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т./Сост. М. А. Цявловский (1799 -сент. 1826), Н. А. Тархова (сент. 1826 -1837); Отв. ред. Я. Л. Левкович. М.: Слово-Slovo, 1999.
- Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. 1800-1844./Сост. А. М. Песков. М.: Новое литературное обозрение, 1998. 496 с.
- Манн Ю. В. Динамика русского романтизма. М.: Аспект Пресс, 1995. 384 с.
- Нагина К. А. Метельные пространства русской литературы (XIX -начало XX века). Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. 129 с.
- Пропп В. Я. Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического исследования). Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1963. 143 с.
- Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 462 с.
- Рудакова С. В. «Филида с каждою зимою» в контексте книги стихов «Сумерки» Е. А. Боратынского//Дергачевские чтения -2011.
- Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: Мат-лы Х Всерос. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения И. А. Дергачева: В 3 т. Екатеринбург: Урал. ун-т, 2012. Т. 2. С. 323-328.
- Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX -нач. XX в. М.: Наука, 1979. 287 с.
- Фаустов А. А. Авторское поведение в русской литературе: Середина XIX века и на подступах к ней. Воронеж, 1997. 108 с.