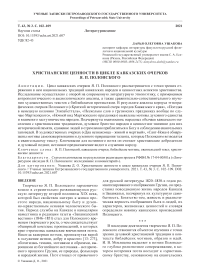Христианские ценности в цикле кавказских очерков Я. П. Полонского
Автор: Ушакова Д.О.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Цикл кавказских очерков Я. П. Полонского рассматривается с точки зрения отражения в нем национальных традиций кавказских народов и ценностных аспектов христианства. Исследование осуществлено с опорой на современную литературную этнопоэтику, с применением антропологического и аксиологического анализа, а также сравнительно-сопоставительного изучения художественных текстов с библейскими претекстами. В результате анализа корпуса этнографических очерков Полонского («Краткий исторический очерк городов Кавказского края», «Поездка в немецкую колонию Элизабетталь», «Несколько слов о грузинских праздниках вообще по случаю Марткопского», «Ночной вид Марткопского праздника») выявлены мотивы духовного единства и взаимного заступничества народов. Подчеркнуты взаимосвязь народных обычаев кавказского населения с христианскими традициями, духовное братство народов и ценностное значение для них исторической памяти, единение людей в стремлении приблизиться к Богу в соблюдении евангельских заповедей. В художественных очерках («Два незнакомца - живой и мертвый», «Саят-Нова») обнаружены мотивы самопожертвования и духовного приращения таланта, которые Полонским возводятся к евангельскому тексту. Ключевыми для истинного поэта он считает христианские добродетели и духовный подвиг, истинное предназначение видит в служении народу.
Я. п. полонский, кавказские очерки, библейские мотивы, евангельский текст, христианские ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/147227336
IDR: 147227336 | УДК: 82-43 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.607
Текст научной статьи Христианские ценности в цикле кавказских очерков Я. П. Полонского
Творчество Я. П. Полонского гармонично вошло в стремительно развивающуюся русскую литературу второй половины XIX века, которой был свойствен интерес к жизни простого народа, национальному быту и духовно-нравственным основам человеческого бытия. Период службы на Кавказе в канцелярии наместника и редакции газеты «Закавказский вестник» (1846–1851) стал для Полонского временем творческого роста, о чем свидетельствует обширный комплекс произведений, в которых ярко отразились кавказские впечатления поэта. Некогда камерная поэзия, проникнутая верой в «служение истине, добру и красоте» [13: 273], обогатилась темами, мотивами и образами, выросшими из богатейшего источника – исторического прошлого Грузии, ее природы, фольклора и народной жизни. Поэт отошел от привычного
для русской литературы 1820–1830-х годов романтизированного изображения Грузии, он представил повседневную жизнь народов Кавказа и Закавказья, подчеркнув их культурную самобытность. Богатство тем, живость и реалистическая верность изображения быта и людей, их характеров, жизненных ценностей и словаря определили новизну кавказских произведений Полонского.
***
В последние десятилетия творчество Я. П. Полонского становится объектом изучения с точки зрения духовной христианской традиции в контексте библейских мотивов, образов и идей. И. В. Моклецова выделяет в поэзии Полонского глубоко религиозное сопереживание, в котором воззрения поэта восходят к «христианскому братству, основанному на евангельских заповедях, заботливом отношении к беспомощным и отвергнутым» [11: 14]. И. Л. Багра-тион-Мухранели объясняет интерес поэта к кавказским реалиям единым корнем русского и кавказского Православия [2: 14–15], чем подчеркивает важность национальных скреп братских народов, с одной стороны, с другой – глубокий подтекст художественных произведений, связанный с религиозной общностью кавказских народов. В мотиве покоя Е. А. Гаричева видит выраженное автором стремление «к равновесию земного и небесного», «веру в идеал и способность к состраданию» [4: 385]. Т. В. Федосеева пишет о связанном с библейскими ценностями поиске Полонским «гармонии физического, душевного и духовного в человеке», которую находит в «восстановлении утраченной человечеством душевной цельности» в «идеале самоотверженной христианской любви» [17: 394].
В настоящей статье кавказские очерки Я. П. Полонского рассматриваются с опорой на современную литературную этнопоэтику (В. Н. Захаров) [8], с применением антропологического (О. А. Бердникова)1 и аксиологического анализа (В. Н. Аношкина-Касаткина, М. М. Дунаев, А. М. Любомудров, А. В. Моторин) [1], [6], [10], [12], а также приемов сравнительно-сопоставительного анализа художественных текстов с библейскими претекстами (И. А. Есаулов, И. С. Урю-пин) [7], [14].
Анализируемые нами произведения: «Поездка в немецкую колонию Элизабетталь» (1848)2, «Несколько слов о грузинских праздниках вообще по случаю Марткопского» (1848)3, «Ночной вид Марткопского праздника» (1848)4, «Краткий исторический очерк городов Кавказского края» (1847)5, «Саят-Нова» (1851)6, «Два незнакомца – живой и мертвый» (1847)7 были опубликованы в 1847–1851 годах в газетах «Закавказский вестник» и «Кавказ». Впоследствии они не переиздавались и не становились объектом самостоятельного исследования. Цикл кавказских очерков Я. П. Полонского впервые анализируется с точки зрения рецепции библейских текстов и воплощения ценностных ориентиров личности писателя.
В этнографическом очерке «Поездка в немецкую колонию Элизабетталь» вместе с воссозданием картины повседневной жизни писатель обращается к вопросу духовной жизни колонистов. Это прослеживается в подробном описании событий воскресного дня и личного участия в них автора. Полонский отмечает, что воскресенье для поселян не просто день отдыха от физического труда, а время духовного развития: колонисты откладывают привычные дела и направляются в «кирку» – местную церковь, что, по мнению автора, благотворно влияет на объединение народа. Соборное пение прихожан подчеркивает духовную гармонию жителей колонии, их внутреннюю твердость и стойкость: голоса всех присутствующих «смешались в один протяжный, торжественный гимн» (135). Эта идея соотносится с библейским мотивом совместной молитвы: «И нитка, втрое скрученная, нескоро порвется» (Еккл. 4:12).
Очерки Я. П. Полонского «Несколько слов о грузинских праздниках вообще по случаю Марткопского» и «Ночной вид Марткопско-го праздника» ранее были нами рассмотрены в аспекте инонационального этнографизма [15]. В настоящем исследовании мы отмечаем выраженное в них осмысление Полонским евангельской идеи единства населяющих Кавказ народов.
Очерк «Несколько слов о грузинских праздниках вообще по случаю Марткопского» представляет собой подробное описание народного праздника подле развалин Марткопского монастыря. Однако за этнографической точностью прослеживается авторское осмысление вопроса о народном единстве через призму православия. Полонский подчеркивает массовость народных праздников, куда приходили люди вне зависимости от возраста, социального положения, национальности и вероисповедания:
«Есть такие праздники, на которые стекается народ за сотни верст, где все сословия от пастуха до князя принимают равное участие и где целые десятки тысяч костров освещают ночное небо, оглашаемое неумолкаемыми песнями» (143).
Автор отмечает, что в Грузии от былого величия православных церквей и монастырей теперь остались только руины. В ценностном аспекте его внимание направлено на глубину народной памяти, где хранятся имена и события, в честь которых эти памятники были основаны.
В очерке «Ночной вид Марткопского праздника» отражается стремление Я. П. Полонского увидеть главную составляющую гармоничной жизни инонационального Кавказа. Он замечает, что христианская религиозность в проведении праздника тесно переплетается с народными обрядами. Духовную близость людей автор подчеркивает изображением общего хоровода, где выделяет символичные действия поселян: они «…кладут друг другу на плечи руки, как бы опираясь друг на друга, чтобы не упасть, делают два прыжка направо и потом прыжок налево…» (147). Близость рук и движения танца символически изображают единение людей в любви к родной земле, традициям и обычаям. Мотив духовного единства народа как непреходящей вечной ценности перекликается с евангельской идей о вере и гармоничности отношений верующих: «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино…» (Иоан. 17:21, 22). Вера «во Христе», утверждает автор, порождает духовное братство народов.
Эта гармония веры и традиций соотносится со взглядами автора, глубоко ценившего православные основы мироустройства. Вместе с тем культурная оригинальность марткопских праздников позволяет ему передать духовное единство всего многонационального населения Грузии.
Восходят к библейскому тексту и сведения, помещенные в «Кратком историческом очерке городов Кавказского края». Описывая жизнь местного населения городов Северного Кавказа, Грузии, Азербайджана и Армении, Я. П. Полонский обращается к истории возникновения населенных пунктов, а также обнаруживает особенности народного мировидения и духовности. В связи с этим особенную ценность для поэта приобретают старинные легенды и предания, в которых запечатлена история. Именно они становятся связующим звеном между прошлым и настоящим, в них просматриваются общенациональные, ветхо- и новозаветные идеи, объединяющие многонациональное государство.
Об уездном городе Нахичевань Я. П. Полонский пишет как о бывшей столице Армянского царства, в котором еще сохраняют память далекого прошлого «развалины некоторых мечетей и древних зданий» (58). К их числу относится небольшая молельня местных армян, называемая «Ноевой гробницей». Народное почитание ветхозаветного героя не случайно, согласно библейскому тексту, после длительного потопа Ноев ковчег прибился к суше, впоследствии кавказской земле: «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских» (Быт. 8:4). Кроме того, автор указывает, что недалеко от Нахичевани находится местечко Маранд, где, по преданию, погребена жена Ноя. Память о семье ветхозаветных праведников занимает особое место в жизни горцев, так как именно их земли стали первым пристанищем ковчега, там же провел остаток жизни и сам Ной, а его сын Иафет считается прародителем народов Кавказа.
Привлекая обширный исторический материал, восстановленный из преданий и легенд, Я. П. Полонский подчеркивает глубинное значение исторической и культурной памяти народов, искони населяющих Кавказ. Залог гармоничного сосуществования грузин, армян, азербайджанцев на одной исторически сложившейся территории автор видит в общности исторических событий, бережно сохраняемых народной памятью в национальных преданиях и легендах, библейских сюжетов и образов. В этой совокупности усматривается выражение духовных воззрений народов.
Своим идейным содержанием к историкоэтнографическим очеркам Я. П. Полонского примыкают художественные очерки «Два незнакомца – живой и мертвый» и «Саят-Нова». Ранее нами была рассмотрена жанровая специфика и стилевая характерность этих произведений [16]. Их сюжетную основу составляют живые впечатления писателя от знакомства с жизнью социальных низов Тифлиса. Повествование Полонский сопровождает авторскими комментариями, в которых прослеживается его отношение к вопросам нравственности, миропонимания, основанного на осознании обитателями Тифлиса православных догм и ценностей. Эти идеи и установки оформляются в систему библейских мотивов.
В очерке «Саят-Нова» Я. П. Полонский рассказывает о судьбе армянского поэта – Арутина Саядяна, подчеркивая в его личной биографии значимость подвига христианина:
«Бедный армянин по происхождению, ткач по ремеслу, сазандар, или певец по влечению души своей, гуляка в юности, отшельник в старости, наконец, христианин, с крестом в руках убитый врагами на пороге церкви, – вот кто был Саят-Нова» (2).
Автор выделяет самобытный талант «сазандаря» и наполняет повествование аллюзиями к библейскому тексту. Мотив духовного богатства восходит к наставлениям Иисуса Христа. В Нагорной Проповеди он неоднократно предостерегал людей от чрезмерной привязанности к земным благам: «Но собирайте себе сокровища на небе… Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:19–24).
Жизнеописание Саят-Новы доказывает, что вместо скопления скоропреходящих благ человеку лучше позаботиться о приобретении внутреннего богатства, которое подлинно ценно и которое будет его вечным достоянием. Саят-Нова, по замечанию Я. П. Полонского, осознавал божественное происхождение своего таланта, поэтому, прежде чем стать сазандарем, «наложил на себя семилетний пост в честь Иоанна Крестителя, который считался у армян покровителем всех ремесел» (2). Такая глубокая нравственная подготовка отразилась в поэзии народного певца религиозными мотивами и духовными ценностями. Он взрастил свои песни из веры, поэтому его лирика далека от любовного и легендарного характера грузинских и татарских песен. Его стихи часто «торжественно-поучительны», в них звучат нравственные советы, утверждение любви к Богу, ближнему, духовным знаниям, терпению и смирению. Полонский указывает, что для Са-ят-Новы источником вдохновения стали священные книги и христианские заповеди, подарившие его лирике особенное звучание. Е. В. Греджева в песнях ашуга выделяет философскую тему – размышления лирического героя над судьбами человечества [5: 218]. Действительно, Полонскому близки мысли Саят-Новы о вечности поэзии и преемственности в искусстве, выраженные в цитируемых из песен ашуга отрывках. Нельзя не заметить также, что в них слышится поучительность с отголосками заповедей: призыв служить своему дару с усердием и главным смыслом бытия считать не материальные блага, а духовные: «…похватай хоть звезды с неба – без добрых дел и мудрость семя пропащее» (3).
В первую очередь сазандар видит свое призвание в служении таланту через заботу о душе: «…если не хочешь славы от мира сего, получишь алмазы небесного царствия…» (3). Поэт тогда будет вознагражден, когда расширит свой талант, обращаясь к христианским добродетелям и в творчестве, и в жизни. Не может он быть равнодушен к несправедливости, от которой страдает его народ. Духовное подвижничество «сазандаря» было тесно связано с его непростым жизненным путем и оказалось близким Полонскому. Как пишет Т. В. Федосеева, образ народного певца послужил ориентиром в творческом самоопределении русского поэта, который «глубоко и эмоционально переживал несправедливости и несовершенства мира» [18: 46]. Автор признает гармоничность песен ашуга, в своей лирике он желает подобного единения чувства, слова и мысли. Однако в поэзии Полонского лирический герой находится в поиске гармонии. Следуя наблюдениям исследовательницы, мы отметим, что, включая творчество Саят-Новы в живую народную традицию, автор очерка подчеркивает его индивидуальность, обоснованную характером христианина и незаурядной судьбой.
Сюжет художественного очерка «Два незнакомца – живой и мертвый» разворачивается в городских трущобах Тифлиса. Рассказчик знакомит читателя с обитателями этой среды – это «живой», бедный русский дворянин, промотавший отцовский капитал, и «мертвый» – молодой поэт-грузин Луарсаб. В очерке противопоставлена идея духовного богатства как высшей ценности человека поискам материального благополучия, выраженная в библейском сюжете о блудном сыне. Как учит притча, человек только тогда об- ретет душевный покой, когда осознает свою греховность и покается: «…сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15:11–32). История «живого» не позволяет говорить о его покаянии в будущем, но его искренность, бесхитростный характер и глубокое душевное сокрушение о безвременной кончине друга дают надежду на такую возможность.
Жизнь случайного знакомого, названного Я. П. Полонским «живым», тесно переплетается с судьбой «мертвого» – поэта Луарсаба. Это имя восходит к имени грузинского царя Луарса-ба II, принуждаемого шахом Аббасом перейти в ислам, сохранившего верность Святой Церкви Христовой и принявшего за это мученическую смерть [9]. В имени героя очерка очевиден намек на то, что герой очерка должен обладать высокими нравственными качествами – быть христианином, готовым на самопожертвование.
Судьба и психологические особенности личности Луарсаба отражены в рассказе «живого», стремящегося представить полную картину дружеских отношений с юным поэтом. Их история перекликается с притчей о добром Са-марянине, который проявил милосердие и бескорыстно помог попавшему в беду человеку (Лк. 10:25–37). Русский человек пришел на помощь бедному грузину, когда с ним произошел несчастный случай: юношу столкнули на мостовую и он разбился. Ценность проявленного «живым» человеколюбия усиливается ответной добротой Луарсаба: за труд переводчика при русском путешественнике он запросил в качестве платы лишь «пустое место на спине у лошади» (191). Автор подчеркивает значение взаимопонимания молодых людей в период их жизненных неудач. Не материально, но морально Лу-арсаб поддерживал жизненные силы товарища: «…мы вместе читали, вместе думали» (191). Взаимопомощь была естественной для двух друзей, что транслирует читателю христианскую истину: любовь к ближнему есть главное сокровище человека.
Наиболее полно образ Луарсаба раскрывается в изображении его как поэта. Это был простодушный молодой человек, отличавшийся задумчивостью, даже странностью. Обладая «страстной жаждой знания», он не мог всецело посвятить себя образованию и творчеству из-за крайней бедности его семьи. На юношу оказывала давление жестокая социальная действительность, оставлявшая свой след в его незрелой душе, принужденной смиряться с жалким положением. Автор очерка обнаруживает причину, подорвавшую жизненные силы Луарсаба: «…мать его за каких-нибудь двадцать червонцев, продала честь сестры его!» (192). Обстоятельство, идущее вразрез с христианским мироощущением поэта, разрушает его жизненную опору. В этом эпизоде просматривается антитеза мотива жертвенности, восходящего к евангельскому тексту. В православии жертва Иисуса Христа – фундамент веры. Его жертва – это искупление грехов человечества, подвиг, взлет веры. Поступок матери нарушает понятие о христианской жертвенности, так как она своей волей лишает дочь выбора. Луарсаб не может этого принять, в угнетающей его душу ситуации он видит проявление несправедливости и жестокости мира и от этого страдает. Он не может простить мать. Душу молодого поэта отягощает обида, осознание собственной беспомощности истощает нравственные силы, все это приводит к безвременной смерти.
В очерке Я. П. Полонский затрагивает вопрос служения таланту. В образе Луарсаба писатель показывает, как духовное опустошение может привести творца к трудностям в жизни и творчестве. В судьбе юноши «слово» занимало особое место: он работал у переплетчика, с упоением читал все, что попадалось ему под руку, знал несколько языков и, наконец, стал поэтом. Настоящий поэт, по мысли Полонского, должен расширять внутренние ресурсы души. Истинное творчество – в служении людям, и тогда оно не прерывается и обретает продолжение:
«Много песков поглощают моря, унося их волнами, / Но берега их сыпучими вечно покрыты песками. / Много и песен умчит навсегда невозвратное время – / Новые встанут певцы, и услышит их новое племя»8.
Авторское отношение к перипетиям судьбы поэта прослеживается в речи «живого»: «А вдохновенье, это нравственная болезнь – единственный выход одно только творчество. – Если талант не равен вдохновению, беда!» (191). Луарсаб, слишком зависимый от воздействия грубой действительности, не способен стать настоящим поэтом, он не смог во всей полноте развить свой талант и дать волю вдохновению. В мыслях молодого поэта рождались идеи и образы, он восхищался творчеством Мильтона, но зачастую сжигал свои творения. Робкая и нежная, надорванная страданиями, душа юноши не смогла выдержать дарованную ему силу таланта. В размышлениях «живого» слышится авторское понимание скорой смерти поэта, ее причина – в оскудении нравственных сил: «Человек – растение… Суха почва – и растение гибнет. Это старая истина» (191). Таким образом, Луарсаб, наделенный тонкой душев- ной организацией, не сумел справиться с выпавшими на его долю жизненными испытаниями. Он не смог отстраниться от грубой действительности, направить силы на поиск истинного источника восполнения душевных сил – веры и безраздельно посвятить себя дарованному свыше таланту.
Смерть юного поэта призвана подчеркнуть бессмысленность душевных терзаний и зависимости от материальной стороны жизни. Главная задача человека – забота о душе. В связи с этим автор очерка несколько раз обращает внимание на старика, читающего возле гроба юноши Псалтырь. Он подчеркивает важность его занятия и надеется, что псалмы помогут душе, разлучившейся с телом, обрести упокоение в Небесном Царстве. Вероятно, «странное чтение» старика должно быть значимо не только для души усопшего, но и для всех обитателей тифлисских трущоб:
«…не сам ли Бог привел его сюда – в это место, чтобы этим надмогильным чтением разбудить сонную совесть грязнаго разврата… и быть может спасти кого-нибудь…» (183).
Таким образом, в мотивах таланта, талантливой личности и жертвенности прослеживаются идеи обретения человеком нравственной чистоты и жизненной силы.
Результатом духовного спасения человека становится гармония мира. В стихотворении Я. П. Полонского «Заступница», первая редакция которого включена автором в публикацию художественного очерка «Два незнакомца – живой и мертвый», выражена мысль о том, что Иверия обретает спасение от иноземных агрессоров только благодаря своей сестре – России. С 1801 года Грузия в качестве губернии приняла подданство Российской империи и находилась под ее протекторатом, что помогло сдерживать захватнические действия Ирана и Турции в отношении этой земли, а следовательно, и исламский гнет [3]. Значимость духовного единства стран усиливается евангельским мотивом приближения Судного дня. Е. А. Федорова, осмысляя это стихотворение, пишет, что автор персонифицирует Иверию и Россию, называя их сестрами, не случайно. Уже в этом метонимическом переносе прослеживается христианское начало:
«Заступницей в народе считается Пресвятая Богородица, а Ее образ явлен в Иверской иконе Божией Матери. У Полонского Иверия на Страшном Суде свидетельствует в пользу России, подчеркивая ее бескорыстную помощь и любовь, готовность к самопожертвованию» [19: 31].
Сюжетно мольба Иверии о помиловании России может быть связана с эпизодами Евангелия от апостола Иоанна, когда Иисус занимает место слуги и омывает ноги Своим ученикам (Ин. 13: 1–20). Это действие имело духовный смысл: единства можно достичь только при нравственной чистоте – чистоте совести. Христос показал апостолам пример взаимного служения, не умаляя самой идеи старшинства.
Так и в стихотворении «Заступница» Я. П. Полонский создает образ благодарной Иверии, готовой «повергнуться во прах» ради спасения своей сестры: «О, Царь царей! Господь! суди мои дела, / Но милуй Русь!» (192). Тем самым в поэтике стихотворения автор транслирует евангельские мотивы единства и заступничества для родственных стран и народов. Добро, совершенное одним народом, вернется другому за пределами земного бытия. Как Иисус восстановил связь между людьми и Богом, умерев на кресте, так и Иверия готова на самопожертвование ради спасения России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выделенный нами комплекс мотивов: духовного единства и взаимного заступничества народов, самопожертвования, духовного приращения таланта, веры в силу Священного Писания и надежды на прощение грехов – отражает онтологические смыслы и духовное содержание истории. Рецепция библейского текста служит воссозданию объективной картины жизни кавказских народов в их историческом и культурном развитии. Их мироустройство основано на единении национальных традиций и принятии универсальных духовно-нравственных ценностей. Очерки послужили выражению нравственно-философской концепции автора и его взгляда на мир и творчество через призму христианских ценностей. Писатель транслирует идею духовного подвижничества человека как объединяющую христианские ценности: любовь к ближнему, сострадание, самопожертвование, народное единство, приращение таланта.
Список литературы Христианские ценности в цикле кавказских очерков Я. П. Полонского
- Аношкина-Касаткина В. Н. Православные основы русской литературы XIX века. М.: Пашков Дом, 2011. 384 с.
- Багратион- Мухранели И. Л. «Другая жизнь и берег дальний.» Репрезентация Грузии и Кавказа в русской классической литературе. Тверь: Изд. Марины Батасовой, 2014. 456 с.
- Вачнадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших дней) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://modernlib.ru/books/vachnadze_merab/istoriya_gruzii_s_drevneyshih_vremen_do_nashih_dney/ read (дата обращения 20.10.2020).
- Гаричева Е. А. Движение к покою в лирике Я. Полонского // Проблемы исторической поэтики. Вып. 5. Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр / Отв. ред. В. Н. Захаров. Петрозаводск, 2008. С. 375-384.
- Греджева Е. В. «Духовный опыт народов Востока в лирике Я. П. Полонского» // Я. П. Полонский: вопросы творческой биографии: Моногр. / Отв. ред. Т. В. Федосеева. Рязань: Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2019. С. 194-221.
- Дунаев М. М. Православие и русская литература: В 6 ч. Ч. 1. М.: Христианская литература, 1999. 317 с.
- Есаулов И. А. Евангельский текст в русской культуре и современная наука // Проблемы исторической поэтики. Вып. 6. Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр / Отв. ред. В. Н. Захаров. Петрозаводск, 2011. С. 5-23.
- Захаров В. Н . Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. Вып. 3. Петрозаводск, 1994. С. 5-11.
- Коридзе Т. Луарсаб II // Православная энциклопедия. Т. ХЫ М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2016. С. 521-523.
- Любомудров А. М. О православии и церковности в художественной литературе // Русская литература. 2001. № 1. С. 107-125.
- Моклецова И. В . О Родине и о себе: молитвенные размышления Я. П. Полонского // Я. П. Полонский: творчество, судьба, эпоха (посвящается 195-летию со дня рождения поэта) / Сост. Т. В. Федосеева. Рязань: Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2015. С. 8-17.
- Моторин А. В. Духовные направления в русской словесности XIX века: Монография / А. В. Моторин; НовГУ им. Ярослава Мудрого. В. Новгород, 2012. 504 с.
- Орлов В. Н. Полонский // История русской литературы: В 10 т. Т. VIII. Ч. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 261-283.
- Урюпин И. С. Библейский текст в русской литературе конца XIX - первой половины ХХ века: Курс лекций. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2015. 187 с.
- Ушакова Д. О. Инонациональный текст в путевых очерках Я. П. Полонского кавказского периода творчества // Вестник РГУ им. С. А. Есенина. № 4 (65). Рязань, 2019. С. 132-141.
- Ушакова Д. О. Художественный очерк в кавказской прозе Я. П. Полонского // Я. П. Полонский: личность, творчество, эпоха (посвящается 200-летию со дня рождения поэта) / Науч. ред. Т. В. Федосеева. Рязань: Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2019. С.71-80.
- Федосеева Т. В. Мотив искушения монаха в творчестве Я. П. Полонского // Проблемы исторической поэтики. Вып. № 12. Петрозаводск, 2014. С. 280-399.
- Федосеева Т. В . О поэте и поэзии: творческая рефлексия и литературные оценки // Я. П. Полонский. Вопросы творческой биографии: Монография / Отв. ред. Т. В. Федосеева. Рязань: Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2019. С. 46-47.
- Федорова Е. А. Духовная поэзия Я. П. Полонского (по журнальным публикациям и прижизненным изданиям) // Я. П. Полонский: личность, творчество, эпоха (посвящается 200-летию со дня рождения поэта) / Науч. ред. Т. В. Федосеева. Рязань: Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2019. С. 25-36.