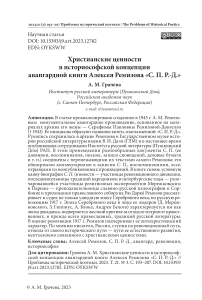Христианские ценности в историософской концепции авангардной книги Алексея Ремизова «С. П. Р.-Д.»
Автор: Грачева А.М.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализировано созданное в 1945 г. А. М. Ремизовым монументальное авангардное произведение, основанное на материалах архива его жены - Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло († 1943). Ее инициалы образуют название книги, озаглавленной: «С. П. Р.-Д.». Рукопись сохранилась в архиве Ремизова в Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля (ГЛМ) и в настоящее время опубликована сотрудниками Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. В этом произведении разнообразные документы С. П. (ее дневники, воспоминания, письма, записи сновидений, деловые бумаги и т. п.) соединены с перемежающими их текстами самого Ремизова: его обширными комментариями к записям С. П ., воспоминаниями, эссе, отрывками из неопубликованных произведений. В книге сквозь условную канву биографии С. П . (в юности - участницы революционного движения, последовательницы традиций народников; в петербургские годы - разочаровавшейся участницы религиозных экспериментов Мережковских; в Париже - преподавательницы славяно-русской палеографии в Сорбонне и прихожанки православного собора на Рю Дарю) Ремизов рассматривает и судит не только ушедшую эпоху Серебряного века, но русскую революцию 1917 г. Эпоха Серебряного века в лице ее лидеров (Д. Мережковского, З. Гиппиус, А. Блока, Андрея Белого) характеризуется им как эпоха декаданса , подвергается жесткой критике за отход ее мэтров от нравственных, и прежде всего православных традиций русской литературы. В оценке революции 1917 г. Ремизов подчеркивает ее антихристианский характер. По мнению писателя, Россия, ступив на революционный путь, отошла от своего исторического пути - пути ее естественного развития, неотъемлемо связанного с христианскими ценностями.
Алексей ремизов, с. п. р.-д, авангард, революция, историософия
Короткий адрес: https://sciup.org/147241101
IDR: 147241101 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12782
Текст научной статьи Христианские ценности в историософской концепции авангардной книги Алексея Ремизова «С. П. Р.-Д.»
13 мая 1943 г. после тяжелой болезни скончалась жена Алексея Михайловича Ремизова — Серафима Павловна (далее: СП ). Будущие супруги познакомились друг с другом в 1901 г. в Усть-Сысольске, где вольнослушатель Московского университета и выпускница Санкт-Петербургских Высших женских курсов отбывали ссылку за революционную деятельность. Они происходили из разных классов русского общества, отличавшихся укладом, но равно ревностно исповедовавших православие.
По рождению Ремизов принадлежал к высшему слою московского купечества, жил во флигеле по соседству с фабрикой дядюшек — Н. А. и В. А. Найденовых, близко наблюдал тяжкий труд и нищенскую жизнь пролетариев. Размышления о социальной несправедливости привели его к идеям об изменении порядка вещей. В 1950-е гг. писатель вспоминал:
«Сначала мне казалось, что все можно поправить низложением правящих царя и министров, и был готов на правое дело, но такое чувство было недолго. Я поверил в марксизм» [Кодрян-ская, 1959: 80].
Серафима Довгелло родилась в семье мелкопоместных дворян Черниговской губернии. С детства она восприняла глубинный смысл христианской идеи самопожертвования. При чтении житий ее увлекали образы мучеников, «пострадавших» за свою веру. Поступив в 1893 г. учиться на Бестужевские курсы, Серафима была вовлечена в тот вариант революционного движения, который наиболее корреспондировал с ее религиозными убеждениями. Идеи «пострадать» за народ, принести себя в жертву ради его блага были ведущими в идеологии революционного народничества конца 1870-х — нач. 1880-х гг. В дальнейшем они были преемственно восприняты его наследниками, в начале XX в. основавшими партию социалистов-революционеров (эсеров).
Тесное сближение, произошедшее между молодыми людьми (эсеркой и эсдеком) в 1902 г. в Вологде, в момент окончания срока их ссылки, проходило на фоне борьбы А. Ремизова и Б. Савинкова за дальнейшую судьбу Серафимы1. Будущий лидер Боевой организации партии эсеров видел в девушке одну из активных участниц планировавшегося террора. Если отказ Ремизова от участия в революционном движении был обусловлен сознательным выбором иного — писательского пути, то отход Серафимы был во многом связан не с трансформацией коренных политических воззрений, а с изменением ее женской судьбы: выходом замуж и рождением дочери Наташи. Дальнейшая жизнь СП в Петербурге, ее попытки обрести в жизни свое место, а не быть лишь супругой писателя, привели ее в 1907 г. к духовному кризису. Ремизов так вспоминал об одном из способов его преодоления в письме от 7 августа 1947 г. к своей литературной ученице Н. В. Кодрянской:
«Серафима Павловна не любила писать. Но как произошла "Оля" (имеется в виду повесть Ремизова. — А. Г .)? <…> Чтобы выйти из чёрной тоски, она стала записывать для себя, ничего не сочиняя. Надо было "сорвать сердце". Я это заметил. И уж стал просить записать что-нибудь из того что сию минуту изводит. <…> Если бы меня не было, не было бы и книги "Оля". Но без записок и "Оли" бы не вышло» [Кодрянская, 1977: 64].
Целью автобиографических зарисовок СП было самопознание, осмысление предыдущих этапов жизненного пути: от детства в имении под Черниговом до наступления зрелости, совпавшей с отходом от активного участия в революционной деятельности. Зафиксированные в этих записках истории взаимоотношений с наиболее значимыми для нее лицами (родными, соученицами по гимназии и Бестужевским курсам, с товарищами по революционному кружку и ссылке) были восстановлены в памяти и проанализированы исходя из константной ценностной основы натуры СП — христианской веры. На базе мемуарных свидетельств жены Ремизов написал серию рассказов, которые затем переработал и соединил воедино в повесть «Оля», опубликованную в 1927 г.2. В ней рассказывалось о детстве и дороге в революцию девушки Оли (alter ego СП) — о начале ее жизненного пути, закончившегося арестом, заключением и ссылкой. Примечательно, что в том же 1927 г. была издана книга Ремизова «Взвихренная Русь»3, многие главы которой, как ныне текстуально доказано, также возникли на основе генетически сходных первоисточников — дневниковых записей и заметок жены писателя. Фактически уже с конца 1910-х и в 1920-е гг. тексты СП были для Ремизова одной из главных документальных основ при его работе над темами сути русской революции и причин катастрофических катаклизмов, потрясших Россию в начале ХХ в.
По сложившейся в семье Ремизовых традиции оба супруга имели и реализовали свое право на автономное, в том числе интеллектуальное, пространство, на неприкосновенность частных документов, читать и использовать которые каждый из них мог только с разрешения другого. Только после смерти СП впервые в полном распоряжении Ремизова оказался весь архив его супруги, включая дневники, большинство которых были предназначены сугубо для личного пользования диаристки.
Вскоре после похорон, в июне 1943 г. Ремизов вернулся к литературному творчеству, прерванному из-за тягот ухода за умиравшей женой. С этого времени основной темой его творчества стало сохранение памяти о СП , раскрытие трансцендентного смысла их любви и, через рассказ о ее жизни, — осмысление последних 60 лет русской истории, главным событием которой стала Вторая русская революция.
С февраля по июнь 1945 г. Ремизов переписывал разнообразные материалы архива СП в однотипные «конторские» книги. В итоге их оказалось девять. На обложке почти каждой из них обозначено общее название созданного произведения — аббревиатура: «С. П. Р.-Д.», т. е. « С <ерафима> П <авловна> Р <емизова>- Д <овгелло>» (далее: СПР-Д ); и на всех — структурносодержательное обозначение: «Книга». Оно сопровождается последовательной нумерацией латинскими цифрами от одного до девяти (далее: Книга I , Книга II etc.). В 2023 г. коллектив сотрудников Пушкинского Дома подготовил и издал рукопись СПР-Д в Собр ании сочинений Ремизова4.
В начале работы Ремизов планировал ограничиться объемом одной книги (см.: Книга I ) и представить в ней монтаж из отдельных документов архива СП , отражавших ее жизнь от детства до смерти. Но потом концепция задуманного произведения изменилась, тексты СП были дополнены комментариями, эссе, мемуарными свидетельствами самого Ремизова и, наконец, отрывками из его прозы. За счет этого возник драматический «мыслимый диалог» двух героев ( СП и автора — Ремизова), формирующий сюжетное развитие и определяющий идейнохудожественную концепцию СПР-Д .
Находящиеся в девяти книгах документы не смонтированы в хронологической последовательности развертывания перипетий жизни СП и развития русской истории в соответствии с линейным движением времени. Образно говоря, в СПР-Д представлена своеобразная темпорально-тематическая синусоида, высшей точкой которой являются отраженные в Книгах V и VI годы, в которые сформировались причины, а затем проявились следствия катастрофических перемен, столь чаемых и подготавливаемых «передовой» частью российского общества, прежде всего, интеллигенцией. При этом в их отображении Ремизов, имевший в своем распоряжении, повторим, все бумаги и документы СП , сознательно сделал временнỳю и смысловую инверсию.
В Книге V писатель показал реальность Второй русской революции: события, факты и эмоции, пережитые Ремизовыми с рубежа 1917 г. по 7 августа 1921 г., когда они навсегда покинули Советскую Россию.
В дневниковой прозе СП — основе Книги V — Вторая русская революция предстает как последовательно развивающиеся события апокалипсиса.
Новый 1917-й год открывается прошением СП к Создателю:
«Я желаю и молю Бога, чтобы этот — 1917 г. не был похож на прошлый — 1916-й. Я молю Бога, чтобы мы с А<лексеем> М<ихайловичем> оба были здоровы, и чтобы тихо и мирно жили в нашей квартире <…> Я молю Бога, чтобы был мир на земле, чтобы прекратилась эта страшная война, — я думаю, что все теперь об этом молят. Это общее и всеобщее, и такое важное. Дай нам, Боже, этот 1917-ый год хороший!» (СПР-Д — Росток XVII: 295).
События с февраля по октябрь 1917 г. фиксируются диарист-кой в целом в нейтральном тоне, но после свершения большевистского переворота трактовка происходящего приобретает эсхатологический характер. В дневниковых заметках СП четко представлена ее идеологическая позиция по отношению к происходящему. Такова, например, запись от 23 ноября 1917 г.:
«Есть у меня одно, для чего я живу, и что незыблемо, потому что вечно само по себе — это вера моя во Христа, в чудо через Него, в то, что Он один нас никогда не оставит. <…> Мне с моей верой не страшно. Вот вчера я шла по Николаевскому мосту, там часовня; я остановилась около часовни, перекрестилась. А в это время <…>, один ломовик, видя, как я крещусь, стал зло что-то кричать, — кругом грохотало, но я знаю, что это он кричал что-то угрожающее на то, что я перекрестилась. <…> И я тогда еще и еще раз перекрестилась, а он, пока мне его было видно, все кричал. И я подумала: пожалуй, подымут гонение на крест Христов, — ведь в наше дикое бесстыдное, бессовестное время всего можно ждать. И я подумала: тогда, когда будут гнать крест Христов, я с радостью готова буду и страдать, и умереть за свою веру; никому не отдам своего креста, я живу им и не только я, и вот даже тот, что кричал, он живет только потому, что есть Христос, и все отрицающие и гонящие только потому и живы, что есть крест Христов. Вот за крест я готова и страдать, и умереть, а за партию ни за одну не хочу страдать, — во всякой "партии" — неправда» ( СПР-Д — Росток XVII : 303).
В Книге V оба участника «мыслимого диалога»: и СП , и автор — совпадают в своей эсхатологической трактовке совершающихся событий. С конца 1917 г. на территории бывшей Российской империи воцарился антихрист, он метит своей «печатью» людей, ставших его слугами. Тема «печатей» неоднократно возникает в дневнике СП . Как пример, можно привести ее запись от 8 декабря 1918 г.:
«Очень я тоскую теперь по вечерам и есть только три человека, в которых я совершенно верю, что они не поклонятся "Тельцу" и не примут "антихристовой печати": <…> Н. А. Шапошников,
Ив. А. Рязановский, А. М. Аничкова, есть и еще, я знаю, но я-то их не знаю. По Апокалипсису выходит, что не примут "антихристовой печати" 24 тысячи, и это во всем мире, а сколько же, значит, приходится на наш несчастный Петербург? Не понимаю близорукости тех людей, которые не видят антихристова начала в происходящем. <…> Как страшно, что теперешнее не любит креста, это даже не замаскированный антихрист, а откровенный. Я люблю тех, кто без креста не может и носит крест всегда, бескрестные мне чужды. Наша революция и вышла такая ужасная и такая пошлая, потому что два идейных начала в ее основе: атеизм и декадентство, — а непосредственная причина: война, голод и русская лень» ( СПР-Д — Росток XVII : 320).
В комментарии к этой записи Ремизов развил намеченную СП тему включения культуры так называемого Серебряного века в число явлений, идеологически способствовавших приходу революции, поскольку в своей основе культурный «ренессанс» начала ХХ в. содействовал упадку («декадансу») религиозной основы менталитета русского общества. Примечательно, что писатель включил в число «декадентов» не только «старших символистов», таких как З. Гиппиус, Д. Мережковский, но и «младших»: Андрея Белого и А. Блока. Ремизов, многократно писавший о Блоке и его поэме «Двенадцать» как об уникальном художественном тексте ХХ в., единственный раз негативно отозвался об этом произведении в контексте концептуальной основы Книги V :
«Описание безобразий, которые называются "революцией", да еще с сантиментальным заключением о Христе. <…> в этом 12 и и сказалось "декадентство": все вали в одну кучу, и попал Христос для поэтического контрасту. Андрей Белый тоже что-то вопиял тогда "Христос воскрес". Для верующего человека все эти произведения были, конечно, кощунством» ( СПР-Д — Росток XVII : 320).
В состав Книги V вошли тексты утраченных, идейно и тематически перекликающихся между собой дневников Ремизова и СП , относящихся к годам красного террора. Из этих источников взята, например, запись сна СП в ночь с 26 на 27 февраля 1921 г.:
«На Троицкой ночью. Надо самовар ставить. А<лексей>М<и-хайлович> стоит у дверей, на нем "ученая" шапка и пальто посветлее. "Меня ведь арестуют!" — говорит он. И я вижу, возле А<лексея> М<ихайловича> стоят солдаты и кругом солдаты. От ужаса я не могу раскрыть рта, язык не поворачивается. Я рукой открыла себе рот. А сказать все равно ничего не могу» ( СПР-Д — Росток XVII : 333‒334).
Из своего, также несохранившегося, дневника писатель включил в СПР-Д запись сна, увиденного им в ночь с 3 на 4 марта 1921 г.:
«Мы сидим в комнате: я, С. П. и мой брат, тогда умерший, Сергей. Ночь, и в комнате не зажжено. С улицы вызывают из каждого дома и потом расстреливают. Сейчас дойдет очередь до нашего дома. И я услышал, чей-то голос выкликает: "209–69". А это № нашего телефона. И я выхожу, но не дверью, а через окно, и нисколько не подымаясь, ни на какой подоконник, а как через стеклянную дверь. Я обернулся и вижу, комната с улицы освещена, у стола стоит С. П. и Сергей, — я им поклонился и пошел» ( СПР-Д — Росток XVII : 333‒334).
Надо отметить, что тематика ожидания ничем не обоснованного ареста и расстрела неоднократно встречается и в «дневных» документальных записях Книги V .
Ремизов показывает неприглядную реальность практических деяний победивших революционеров и примкнувших к ним лиц: злоупотребление властью, стяжательство, притеснения и практику террора по отношению к обычным людям. По мнению обоих участников «мысленного диалога», обстоятельства петроградского бытия лет военного коммунизма: голод, разрушение системы коммунального хозяйства, запрет свободной торговли, расстрелы заложников, — все эти составляющие жизни того времени представляют собой детали мозаики реальных проявлений основополагающей эсхатологической универсалии: захвата России антихристом. Противостоять ему можно лишь сохранив веру в Бога и в Его конечную победу над противником.
В Книге V автор противопоставляет картинам мрачной реальности записи СП, посвященные церковным праздникам (Рождеству, Пасхе и др.). В них идет речь о тех религиозных основах жизни, которые в конце концов разрушат мрак, сгустившийся над Россией.
Дневниковая запись СП от 25 декабря 1917 г. на Рождество:
«В это страшное время, когда больше всего значение имеет "штык и пуля" — насилие, а еще и болтливый язык, повторяющий выверенные чужие слова, как особенно важен праздник — Рождество Христово. "Рождество!" — это значит, совершилось великое чудо: пришел на землю Христос, а в этом вся правда, вся свобода, вся жизнь. <…> Хочется мне в этот день напомнить <…> о том Вечном, Единственном Свете, от которого отвернулись теперь люди, отвернулись и перестали быть людьми "по образу и подобию", а стали людьми "человеческими". Ведь где есть хоть тень Христовой правды, там уже улыбка, там уже радость, там у<же> свет. Нет теперь радости даже и у победителей, есть хмель, опьянение, а не радость. Кто любит Христа, тот правду и добро несет с собою, тот свободен, тот смел, потому что чего же бояться, если я со Христом? <…> Кто хоть раз в жизни сказал всею душою и всем сердцем "Христос рождается" и заплакал , потому что сказать всею душою эти два слова и не заплакать от счастья невозможно, кто хоть один раз сказал, тот уже злодеем не будет. Поспешим же все, опомнимся, никогда ведь не поздно, и в одиннадцатый час нас примут, и даже в двенадцатый час не поздно, осеним себя крестным знамением, с ним ничего и никого не страшно» ( СПР-Д — Росток XVII : 305‒306).
Вера и СП , и Ремизова в провиденциальное преодоление Россией власти сил, захвативших над ней временное господство, является главной духовной антитезой изображаемым картинам беспросветной действительности. При этом тот облик революции, в котором она материализовалась в России, также является одним из проявлений бесовского наваждения.
В сложной идейно-художественной структуре СПР-Д следующая, шестая Книга , основанная, в основном, на ранних записях СП мемориального характера, показывает тот идеальный лик революции, каким он представал в мечтах молодежи, как материализация их желания преобразить мир, стремления, основанного не на поругании, отрицании, а на следовании заветам Иисуса Христа. Для Ремизова воплощением личности, следующей по пути такой идеалистической революционности, была юная Серафима Довгелло.
«Я понимаю, — писал Ремизов, — как С. П. была "революционеркой", и это совсем другое, тут никаких нет "бесов": какие же "бесы" хотят "погибнуть", чтобы не страдали люди на проклятой Богом земле. Но ее революционность совсем не жизненная, в жизни все проще, в жизни — "партии", которые во имя своей "программы" пожирают друг друга, и о Боге не может быть речи: по человеческому разумению хочет человек или люди разных толков хотят устроить жизнь на земле. И у каждого своя правда, и во имя этой правды они готовы на все, и ни о каком "братстве" нет речи» ( СПР-Д — Росток XVII : 305).
В Книгу VI включен текст, написанный СП в конце 1900-х гг. и озаглавленный так: «Почему я сделалась революционеркой». Хронологически это, условно говоря, отображение времени рубежа XIX‒XX вв., когда среди молодого поколения интеллигенции зрели чаяния перемен. Фактически это как бы представление того комплекса убеждений, которые не были реально воплощены в жизнь в годы Второй русской революции.
Для СП ее борьба против самодержавия изначально была движением к реализации христианского идеала:
«Когда я была маленькая, мне часто говорили о страданиях Христа, и я много из-за этого мучилась, т<о> е<сть>, что вот это было и из-за меня , потому что из-за всех. И я думала, что самая лучшая дорога — тоже страдать за других . [ Последовать Христу в его крестном пути ]. Это и было основой моей революционности ; мотив был такой: хочу пострадать , мне стыдно жить спокойно, хорошо, когда другим людям плохо. О том, что власть когда-нибудь будет у тех бывших "революционеров", и о том, что можно жизнь изменить так, чтобы все были счастливы, я не думала. <…> Еще я знала, что есть люди, которых гонят за то, что они хотят "устроить счастье на земле" — и я хотела быть в числе гонимых » ( СПР-Д — Росток XVIII : 7);
«Мы с Марусей <…> думали так: мы хотим погибнуть, долго жить не будем, я думала, что в 26 лет [ то есть через 10 лет ] нас казнят. <…> Как делать то дело, за которое погибают, мы не знали, только мы хранили в себе жажду жертвы и всё больше делались с.-р., всё больше не любили с.-д.» ( СПР-Д — Росток XVIII : 11).
Примечательно, что у Ремизова былое исповедание марксизма никак, кроме мемуарных характеристик отдельных лиц, не отразилось в его творчестве. Зато поздне-народнические идеи в аспекте их коннотации с христианской идеологией оказались представлены в гораздо большем числе его произведений, посвященных судьбе России.
Параллелизм осознания главной задачи своего участия в революционном движении как совершения мученического подвига утверждается в программном эссе СП «Какие враги были у русского правительства». Оно было написано весной 1917 г., когда, казалось бы, цели революционеров были достигнуты, монархия рухнула:
«Я с самого детства была очень религиозная и мечтала жить по правде, по заповеди Христовой. Я сказала себе: "Я пострадать хочу , мне стыдно, чтобы мне хорошо жилось, когда другим плохо". С такой вот думой я стала участвовать в революционном движении . <…> В том строе, который только что рухнул, я мечтала о жертве . Я примкнула к партии с.-р., а не с.-д. по двум причинам: партия с.-р. мне казалась выше, святее, потому что в ней больше мучеников; партия с.-р. — наследница "народовольцев", а у "народовольцев" и Перовская, и Желябов, и Михайлов, и много, много повешенных, т. е. до конца замученных русским правительством <…> А вторая причина: оттолкновение мое от с.-д.; а оттолкнуло меня от с.-д. то, что они будто бы все знают <…> Первая причина была самая важная» ( СПР-Д — Росток XVIII : 18‒19).
Почти вся Книга VI содержит воспоминания СП об ее студенческой жизни: участии в сходках, выполнении партийных поручений и, наконец, аресте и годовом заключении в тюрьме. Оказавшись в одиночке и отрешившись от суеты революционных будней, Серафима получила возможность непосредственно сосредоточиться на главном в своей жизни — общении с Богом. В дневнике она записала:
«"Я свою правду потеряла. <…> Всё это для ‘дела’, но душа грязнится. <…> И Богу я не молилась на воле, я, та самая, которая с детства жила молитвою". Теперь в тюрьме я много горячо молилась» ( СПР-Д — Росток XVIII : 17).
Ремизов показывает, что истинное стремление к переустройству мира является осознанием его грядущего трансцендентного Преображения благодаря жертве Иисуса Христа. Запечатленный в СПР-Д мир юных идеалистов — это мир людей, обреченных на гибель, но через свое самопожертвование, желание умереть за других и ради других обретающих высшее оправдание и прощение. По мысли Ремизова, СП была предназначена такая дорога, но сойдя с нее по воле судьбы, она, благодаря своей твердой вере, не утратила права нравственной оценки людей и явлений. Для писателя СП была тем духовным мерилом, которым проверялись и люди, и исторические события.
Сохранившиеся ремизовские планы СПР-Д свидетельствуют, что последовательность расположения девяти книг является не случайной. Если Книга I так и осталась, как и было задумано Ремизовым на раннем этапе его работы над СПР-Д , «кратким» текстом — синтезом темы памяти о СП , то начиная с Книги II можно говорить о расширенном плане создания произведения, посвященного памяти не только умершей любимой, но и целой эпохи. В нем исторические абрисы русской жизни разных десятилетий второй четверти XIX — 40-х гг. ХХ в. перемежаются с «вечным возвращением» — обращением к событиям детства и ранней юности СП , когда сформировался стержень ее личности, основой которой стала вера в Бога. Сквозь этот кристалл Ремизов как бы «разглядывает», давая оценку, и персонажей эпохи Серебряного века ( Книга II ), и череду видных представителей русской художественной и политической «передовой общественности», интеллигенции первого тридцатилетия ХХ в. ( Книга IV ). Далее следует Книга V , в которой автор показывает духовную несостоятельность этой элиты, которая во многом и подготовила страшную реальность Второй русской революции и материализовавшегося в России царства антихриста. Следующая Книга VI — это отображение того идеального соединения христианского идеала и стремления преобразовать русское общество, которое так и не было достигнуто.
В СПР-Д Ремизов продолжает развитие историософской концепции, которая сформировалась у него еще с середины 1910-х гг. Писатель как бы вскрывает и осмысляет скрытые взаимосвязи судеб отдельных людей с судьбой их Родины, чтобы постараться определить то, с каких, на первый взгляд, мельчайших событий начался отход России с пути ее естественного развития, связанного с телеологическими задачами ее бытия. Для Ремизова Вторая русская революция является проявлением национальной катастрофы, поскольку в результате оказалась насильственно разорвана связь между русским народом и его верой. Однако в СПР-Д, как и в других, более ранних произведениях на эту тему («Россия в письменах», «Взвихренная Русь», «Образ Николая Чудотворца. Алатырь — камень русской веры») писатель дает читателю надежду на возрождение России, но оно может наступить только после возвращения ее на предназначенный путь естественного национального развития, в котором нет разрыва между народом и Богом.
Созданное Ремизовым произведение СПР-Д уникально по своей художественной форме — и в творчестве писателя, и среди текстов русской литературы, написанных в одно с ним время. Если в ранних рассказах, повести, романе Ремизов использовал тексты Серафимы Павловны как сюжетные источники, то СПР-Д — это сложное, полифоническое по своей структуре произведение, в котором точно воспроизводимые тексты Серафимы Павловны и тексты самого писателя как бы перетекали, дополняли друг друга. Выступая в роли второго участника мыслимого диалога с женой, Ремизов сумел напрямую выразить в СПР-Д свою позицию относительно целого ряда волновавших его проблем новейшей русской истории и культуры. И в то же время развитие метасюжета СПР-Д направлено к одной цели — преодолению последовательности смены будущего — настоящего — прошедшего. Осмысляя проблему конечности линейного времени, в свете которой факт смерти Серафимы Павловны был неоспорим, Ремизов нашел способ его преодоления. То было «воскрешение» супруги в его творчестве и осмысление их Любви как метафизической силы, которая способна трансформировать время конкретное во время мифологическое, лишенное темпоральных границ. В итоге основой романной структуры СПР-Д стал сюжет о бессмертии Любви. В дальнейшем творчестве писателя создание СПР-Д стало одним из толчков для создания цикла «Легенды в веках», в котором
Christian Values in the Historiosophical Concept…
каждая из легенд была символическим отражением того же сюжета; а в начале 1950-х гг. это произведение послужило творческим импульсом для создания эпопеи «Оля».
Список литературы Христианские ценности в историософской концепции авангардной книги Алексея Ремизова «С. П. Р.-Д.»
- Грачева А. М. Алексей Ремизов и Борис Савинков: история отношений в письмах и воспоминаниях // Studia litterarum. 2021. Т. 6. № 3. С. 346-379 [Электронный ресурс]. URL: https://studlit.ru/images/2021-6-3/Gracheva.pdf (01.07.2023). DOI: 10.22455/2500-4247-2021-6-3-346-379 EDN: IVDWVA
- Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж: [б. и., 1959]. 331 с.
- Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. Париж: [б. и.], 1977. 416 с.