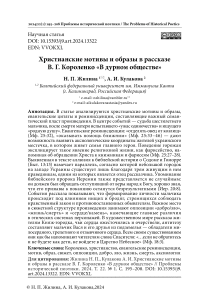Христианские мотивы и образы в рассказе В. Г. Короленко «В дурном обществе»
Автор: Жилина Н.П., Кулакова А.И.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются христианские мотивы и образы, евангельские цитаты и реминисценции, составляющие важный семантический пласт произведения. В центре событий - судьба шестилетнего мальчика, после смерти матери испытавшего «ужас одиночества» и ищущего «родную душу». Евангельские реминисценции: «отделять овец от козлищ» (Мф. 25:32), «оказывать помощь ближним» (Мф. 25:33-46) - дают возможность выявить аксиологические координаты жителей украинского местечка, в котором живет семья главного героя. Поведение горожан эксплицирует такое явление религиозной жизни, как фарисейство, напоминая об обращении Христа к книжникам и фарисеям (Мф. 25:27-28). Выявленная в тексте аллюзия к библейской истории о Содоме и Гоморре (Быт. 13:13) намечает параллель, согласно которой небольшой городок на западе Украины существует лишь благодаря трем живущим в нем праведникам, одним из которых является отец рассказчика. Упоминание библейского пророка Иеремии также представляется не случайным: он должен был обращать отступивший от веры народ к Богу, хорошо зная, что его призывы к покаянию останутся безрезультатными (Иер. 20:8). События рассказа показывают, что формирование личности мальчика происходит под влиянием нищих и бродяг, стремящихся соблюдать нравственный закон и противопоставленных обывателям. Важное место в сюжетной структуре произведения занимают оппозиции «добро/зло», «жизнь/смерть» и «сердце/камень», намечающие главные различия в этических системах персонажей. В художественном мире рассказа жителям Княж-городка, чьи сердца ожесточились и очерствели, антитезу составляют мальчик Вася и его друзья из подземелья - обладатели милосердного, трепетного и отзывчивого сердца. Всем своим существованием они как бы напоминают читателям слова Спасителя: «…если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3).
Короленко, христианство, евангельские реминисценции, мотив, образ, сюжет, оппозиции, добро, зло, жизнь, смерть, аксиология
Короткий адрес: https://sciup.org/147243087
IDR: 147243087 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13322
Текст научной статьи Христианские мотивы и образы в рассказе В. Г. Короленко «В дурном обществе»
В ладимир Галактионович Короленко (1853–1921) вошел в историю России не только как крупный, очень талантливый литератор, но и как выдающийся общественный деятель: его обращение к наболевшим, жизненно важным проблемам всегда привлекало внимание самых широких социальных кругов, а его имя не случайно стало синонимом «совести эпохи». На рубеже XIX–XX вв., когда в русском общественном сознании преобладала идейно-философская сумятица, в произведениях Короленко всегда присутствовал твердый нравственный эталон, основой которого в нашей литературе (как доказано многими современными исследователями) являются христианские ценности — именно они, по точной формулировке В. Н. Захарова, делают «русскую литературу русской » [Захаров: 9].
Хотя творчество Короленко никогда не было обойдено вниманием исследователей, в большинстве работ главным объектом становились биографические материалы и публицистика писателя, а при изучении художественной прозы ученые сосредоточивались прежде всего на социальной проблематике и идейной направленности произведений. Значительно меньшее внимание уделялось поэтике, а христианский аспект оставался, как правило, вне поля зрения. Все сказанное имеет непосредственное отношение и к рассказу «В дурном обществе»1: в последние годы исследователи обращались к социально-нравственной проблематике произведения [Темаева], анализировали поэтику пейзажных описаний и экологию духовного мира героев [Скопкарева], устанавливали ключевые мотивы [Лахина]. Были также рассмотрены писательская концепция детства [Дедюхина, Иванова] и проблема детства в свете экогуманизма [Закирова, Крестьянинова], проведен анализ образа дома как аксиологического понятия [Жилина, Кулакова], изучены архетипические истоки образа сада [Иванова], затронуты текстологические вопросы [Иткин]. Целью данной статьи впервые стал анализ рассказа в христианском аспекте, что обусловливает новизну и актуальность работы.
Рассказ «В дурном обществе», написанный в форме воспоминаний, имеет сложную нарративную структуру, где взаимодействуют два субъекта речи: детское сознание, через призму которого воспринимаются все основные события, и взгляд взрослого рассказчика. Экспозиция вводит читателя в семью шестилетнего мальчика, недавно пережившего трагедию — смерть матери. Отец, погруженный в свое горе, живет только мыслями о прошлом. Он отъединяется от детей, закрываясь в своем кабинете, и лишь изредка выходит в сад; маленькая сестренка занимается с нянькой в детской, а главный герой, чувствуя себя лишним, каждое утро стремится пораньше исчезнуть из своей комнаты, чтобы, вернувшись затемно, сразу лечь в постель. Таким образом, общее пространство дома оказывается разделенным на несколько локусов, не связанных душевной общностью между собой. Оставшаяся без опоры семья близка к духовному распаду — в полном соответствии с евангельским изречением: «…если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот» (Мк. 3:25).
В начале событий в сюжете рассказа появляется мотив утраченного рая, связанного для главного героя с образом навсегда ушедшей матери, оставшейся лишь в его воспоминаниях:
«Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни. <…> И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, — просыпался с улыбкой счастия, в блаженном неведении, навеянном розовыми снами детства. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее любящую милую ласку. Но мои руки протягивались в пустую тьму, и в душу проникало сознание горького одиночества. Тогда я сжимал руками свое маленькое, больно стучавшее сердце, и слезы прожигали горячими струями мои щеки»2.
С мотивом утраченного рая связаны «евангельские реминисценции: дом Васи окружен садом, куда мальчик время от времени наведывается в поисках яблок — этот атрибут в рассказе не имеет значения запретного плода, так как мальчику позволяют их срывать, запрет позже накладывается отцом на уход из дома. Таким образом, мы обнаруживаем своеобразный "перевертыш" евангельского сюжета: сад (изначально заключающий в себе символику идеального мира)3 в художественном мире рассказа неразрывно связан с ложным домом, из которого герой стремится убежать по собственной воле» [Жилина, Кулакова: 78].
Каждое утро, покидая свое жилище, мальчик отправлялся обследовать город и его окрестности, где наиболее привлекательным для него объектом являлся расположенный на острове старинный замок, с которым связано множество историй, нередко вселявших ужас в детскую душу. Носитель этих преданий старый седобородый Януш пользовался исключительным доверием детей, любивших слушать его рассказы из прежних времен. Однако в один из осенних вечеров произошли события, изменившие отношение главного героя к этому необычному зданию. Городские жители знали, кто населял развалины древнего строения:
«Старый зáмок радушно принимал и покрывал и перекатную голь, и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти существа терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили, чем-то питались, — вообще, отправляли неизвестным образом свои жизненные функции» (9).
Все они спокойно уживались вместе, пока старый Януш, также «приютившийся в одном из подвалов зáмка» (7), не решил произвести кардинальные изменения, выдворив часть жильцов и оставив из всего населения лишь тех, кого считал самыми достойными. Заручившись согласием властей, он «приступил к преобразованиям» (9), свидетелями которых стали дети — Вася и его приятели. Привлеченные шумом и криками, доносящимися с острова, они пробрались поближе и, прячась за деревьями, увидели мечущихся вокруг замка бродяг, преследуемых своими собратьями:
«Это Януш сортировал население развалин, отделяя овец от ко́ з-лищ. Овцы, оставшиеся по-прежнему в зáмке, помогали Янушу изгонять несчастных козлищ, которые упирались, выказывая отчаянное, но бесполезное сопротивление» (9).
Иронический эффект от употребления фразеологизма высокого стиля, неуместного для столь бытовой ситуации, неожиданно дополняется в тексте другой интонацией — горькой и сострадающей, связанной с возникновением смысла, противоположного изначальному. Известно, что идиома «отделить овец от к о́ злищ» восходит к евангельскому фрагменту — Речи Иисуса о Страшном Суде (Мф. 25:324) — и означает отделить праведников от грешников5, или — шире — отделить хорошее от плохого6. Но если в Евангелии овцы составляют антитезу к о́ злищам (как праведники — грешникам, носители доброго начала — злодеям), то в рассказе как раз «к о́ злища» становятся объектом насилия со стороны воинственно настроенных «овец» и не имеют никакой возможности им противостоять. Детским сознанием «темные личности», отнесенные Янушем к разряду «к о́ злищ» и оставшиеся в осеннюю ночь без крыши над головой, воспринимаются как «несчастные» — данная лексема и ее дериваты употребляются при описании этого события 11 раз.
Заслуживает внимания сам принцип, согласно которому старый Януш «сортировал» жителей подвала: он «оставил в зáмке только «добрых христиан», то есть католиков, и притом преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода» (10). На взгляд юного рассказчика, «добрые христиане» представляли собой «красноносых старцев и безобразных мегер» (10), угодливых и лицемерных, составляющих «однородный, тесно сплоченный аристократический кружок, взявший как бы монополию признанного нищенства» (10). Возомнив о своей избранности, они обрекают на скитания своих собратьев по судьбе, совершенно забыв о законе любви, заповеданном Спасителем. Сам же Януш, возглавлявший этот «кружок», присваивает себе функции высшего судии, милующего и карающего. Сердце ребенка не может перенести той «холодной жестокости» (11), с которой торжествующие «овцы» выгоняли в дождливую темень испуганных и жалких «ко́ злищ». После этого события мальчика больше не тянуло на остров, он утратил всякий интерес и к старому замку, и к «его барду» (11).
В приведенной выше Речи Иисуса о Страшном Суде (Мф. 25:32) содержится указание на главное различие между «овцами» и «к о́ злищами»: справа Господь поставит лишь тех, кто совершал для своих ближних добрые дела, по левую же сторону — тех, кто не помог ни в чем своим ближним, а значит, и Самому Христу (Мф. 25:3–46). Картина местечка, отгородившегося от чужой беды, не оставляет ни малейших сомнений в том, одесную или ошуюю от Христа будут стоять его жители на Страшном суде:
«Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы» (12).
Поведение горожан эксплицирует такое явление религиозной жизни, как фарисейство. Само слово фарисей , означавшее, как известно, принадлежность к «одной из трех древнееврейских сект»7, позднее приобрело дополнительный переносный смысл: «лицемер, ханжа»8. В сознании главного героя не только Януш и его приближенные, но и все благопристойные обыватели, считающие себя добродетельными гражданами, в действительности оказываются «жестоковыйными» людьми, безжалостными и бессердечными. Можно предположить, что именно к таким были обращены слова Спасителя: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри испол нены лицемерия и беззакония» (Мф. 23:27–28).
В противоположность им детская душа не в состоянии спокойно относиться к чужим страданиям:
«…при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце <…>. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта» (11 – 12).
Выселенные из замка и нашедшие кров в подземелье «темные личности» (10) детским сознанием воспринимаются прежде всего не в социальном аспекте, а в человеческом: их сочувствие друг другу, взаимовыручка, помощь слабым и немощным привлекают Васю — по контрасту с обывателями, презирающими и унижающими их. Поведение этих странных людей, не всегда понятное шестилетнему мальчику, описывается взрослым рассказчиком, и перед читателем раскрывается та жизненная драма, которая изменила их судьбы и сформировала их сложный и противоречивый внутренний мир. Один из обитателей подземелья (которого все звали, по его требованию, «генерал Туркевич») в состоянии легкого опьянения устраивал целые спектакли перед домами известных горожан, обвиняя их в различных грехах — такая необычная форма применялась им для получения какого-либо даяния, и нередко он достигал своей цели. Шутовское начало сочеталось в нем со склонностью к меланхолии: в трезвом виде он утрачивал свою «веселую самоуверенность» — тогда «грозный генерал становился беспомощнее ребенка, и многие спешили выместить на нем свои обиды. Его били, оплевывали, закидывали грязью, а он даже не старался избегать поношений; он только ревел во весь голос, и слезы градом катились у него из глаз по уныло обвисшим усам». Им овладевало состояние «человека, на короткое время приходившего к сознанию своего ужасного положения» (19). Через некоторое время он провозглашал: «— Иду!.. Как пророк Иеремия… Иду обличать нечестивых!» (20) — и отправлялся в город. Упоминание именно этого библейского пророка представляется не случайным: положение Иеремии было особенно трагическим — он должен был обращать отступивший от веры народ к Богу, хорошо зная, что его призывы к покаянию останутся безрезультатными9. Согласно библейскому повествованию, «пророческое служение Иеремии обнимало собой самый мрачный период иудейской истории. <…> С раннего утра (Иер. 25:3) проповедовал он слово Божие, навлекая на себя через это поношение и повседневное посмеяние (Иер. 20:8)»10. Прямая параллель между великим библейским пророком и нищим пьяницей, помимо комического эффекта, имплицитно экстраполирует нравственный модус народа Иудеи, жившего в VI в. до Р. Х., на духовное состояние жителей украинского местечка конца XIX в. н. э.
Нравственный портрет Княж-городка довершается характеристикой, которую дает Тыбурций Драб, по словам рассказчика, «самая замечательная личность из всех проблематических натур, не ужившихся в старом зáмке» (22). Этот предводитель изгнанников, обнаруживавший очевидную для всех «феноменальную ученость» (23), добывал средства для существования мелким воровством и шутовским кривлянием на потеху горожанам. Но его «глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились, вместе с лукавством, острая проницательность, энергия и недюжинный ум. В то время, как на его лице сменялся целый калейдоскоп гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего <…> всегда бывало как-то безотчетно жутко смотреть на гаерство этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая неустанная печаль» (23). В рассказе этому персонажу принадлежит очень важная роль: благодаря ему прекращается разлад между главным героем и его отцом и происходит воссоединение семьи.
Нарушающий в силу обстоятельств юридический закон, сознающий это и сожалеющий об этом, Тыбурций Драб не совершает греха против закона нравственного, и не случайно именно ему принадлежит этическая оценка городских обывателей. По словам его сына Валека, Тыбурций думает, что «городу давно бы уже надо провалиться», если бы не судья, «да еще поп, которого недавно посадили в монастырь, да еврейский раввин» (43). В этом высказывании явственно просматривается аллюзия к библейской истории о Содоме и Гоморре — городах, жители которых, как говорится в Писании, «были злы и весьма грешны пред Господом» (Быт. 13:13) и за это подверглись уничтожению. Узнав о готовящемся наказании, Авраам, обеспокоенный судьбой своего племянника Лота, поселившегося в Содоме, просил Господа пощадить всех горожан ради праведников, которые могли там находиться, и получил обещание, что города эти будут помилованы, если в них найдется хотя бы десять праведников (Быт. 18:23–33). Но таковых не оказалось, и кара Господня обрушилась на грешников, после того как оттуда была выведена семья Лота (Быт. 19:12–30). Согласно этой логике, небольшой городок на западе Украины существует лишь благодаря трем живущим в нем праведникам, одним из которых является отец рассказчика. Заметим, что в этом списке не упоминаются ни католический, ни униатский священники.
Заброшенная униатская часовня, в которой, как ни странно, сохранились все атрибуты для служебных обрядов, играет важную роль в развитии событий: именно здесь происходит встреча главного героя с «детьми подземелья», знакомство с которыми навсегда изменило его картину мира. Однако сюжетная нагрузка этого образа в рассказе значительно сложнее — посредством него актуализируется тема истинного и ложного религиозного выбора. Напомним, что униатская (греко-католическая) церковь была образована в соответствии с решениями Брестской унии в 1596 г. вследствие раскола православной церкви, спровоцированного мощным воздействием Ватикана. При сохранении православных обрядов она признает основные догматы католической церкви и подчиняется папе римскому11. Поскольку церковный раскол всегда воспринимался как страшный грех, в православной среде к униатам часто относились как к предателям отцовской веры. В сюжете рассказа униатская часовня — «родная дочь <…> обывательского города» (8) — составляет своеобразную оппозицию старому замку, принадлежавшему в прежние времена гордо му польскому графу, однако есть и нечто, их объединяющее:
«Теперь и он, и она были трупы. У него глаза потухли, и в них не сверкали отблески вечернего солнца; у нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и, вместо гулкого, с высоким тоном, медного колокола, совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.
Но старая, историческая рознь, разделявшая некогда гордый панский зáмок и мещанскую униатскую часовню, продолжалась и после их смерти…» (8).
Антропоморфный характер изображения этих зданий позволяет рассматривать их как носителей определенных идей, а их смерть экстраполировать на соответствующие мировоззрения, связанные, по-видимому, с религиозными конфессиональными установками.
Оппозиция жизнь/смерть реализуется в рассказе в различных вариантах — одним из них является высказывание Тыбур-ция, которое останется в памяти главного героя на долгие годы: нужно «иметь в груди кусочек человеческого сердца, вместо холодного камня…» (52). В данном контексте сердце как символическое обозначение живой души12 составляет антитезу камню , олицетворяющему нечто мертвое. В словаре Даля приводится как прямое, так и переносное значение глагола каменеть : «…обращаться в камень, принимать вид и свойства его, твердеть; ожесточаться или черстветь»13. Эту же метафорическую семантику слово камень нередко имеет и в Священном Писании, олицетворяя мертвое, бесполезное, то, что противопоставляется плоти (Иез. 10:19; 2 Кор. 3:3). В художественном мире рассказа жителям Княж-городка, чьи сердца ожесточились и очерствели, антитезу составляют мальчик Вася и его друзья из подземелья — обладатели милосердного, трепетного и отзывчивого сердца. Всем своим существованием они как бы напоминают читателям слова Спасителя: «…если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3).
Проведенный в обозначенном аспекте анализ рассказа В. Г. Короленко позволяет обнаружить некоторые латентные смыслы, играющие важнейшую роль в художественной системе произведения и помогающие читателю более точно понять авторскую кон цепцию.
Выявленные в тексте евангельские реминисценции, мотивы и образы дают возможность установить, что главной в сюжетной структуре рассказа является оппозиция добро/зло , через призму которой показывается все происходящее, устанавливаются аксиологические координаты персонажей и определяются главные различия в их этических системах. Нравственным эталоном выступают традиционные для русского сознания ценности, заключающие в себе принципы милосердия, любви и сострадания.
Izhevsk, Institute for Computer Researches Publ., 2016, issue 2 (2), pp. 114 – 127. (In Russ.)
Список литературы Христианские мотивы и образы в рассказе В. Г. Короленко «В дурном обществе»
- Дедюхина О. В., Иванова О. И. Концепция детства в произведениях Ф. М. Достоевского и В. Г. Короленко // Казанская наука. 2021. № 9. С. 18-22. EDN: BUJLFX
- Жилина Н. П., Кулакова А. И. Дом как аксиологическое понятие в повести В. Г. Короленко "В дурном обществе" // Новый филологический вестник. 2023. № 1 (64). С. 75-89 [Электронный ресурс]. URL: http://slovorggu.ru/2023_1/64.pdf (10.10.2023). DOI: 10.54770/20729316-2023-1-75 EDN: UNJESD
- Закирова Н. Н., Крестьянинова К. С. Проблема детства в свете экогуманизма В. Г. Короленко // Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XIX Кирилло-Мефодиевские чтения: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (23-25 мая 2018 г.). М.: Гос. институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2018. С. 342-345. EDN: XUHQBN
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 5-11 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2370 (10.10.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2370 EDN: RUYJPT
- Иванова О. И. Образ сада в произведениях В. Г. Короленко // Проблемы школьного и дошкольного образования: мат-лы XIII Всеросс. науч.-практ. конф. (с междунар. участием). Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2022. С. 55-60. EDN: QWENPL
- Иткин М. Б. От "Дурного общества" к "Детям подземелья": как В. Г. Короленко стал детским писателем // Текстология и историко-литературный процесс: VIII Междунар. конф. молодых исследователей (21-23 марта 2019 г.): сб. ст. М.: Буки Веди, 2020. С. 97-109.
- Лахина Я. В. Корреляция художественных модусов в повести В. Г. Короленко "В дурном обществе" // Первые научные штудии: [ежегодный сборник научных работ]. Новосибирск, 2018. Вып. 8. С. 93-101. EDN: XUMTOX
- Скопкарева С. Л. Эколого-мировоззренческий аспект произведений В. Г. Короленко // Историко-культурное наследие славянских народов Камско-Вятского региона: научный альманах / общ. ред. А. Е. Загребин; ред. кол.: В. С. Воронцов, Р. Н. Касимов; отв. ред. Д. А. Черниенко. Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. Вып. 2 (2). С. 114-127. EDN: XYZTKP
- Темаева Х. Н. Особенности синтетической прозы В. Г. Короленко // Известия Чеченского государственного университета. 2019. № 4 (16). С. 117-120 [Электронный ресурс]. URL: https://www.chesu.ru/doc?p=c83ba8c6d4c01820 (10.10.2023).