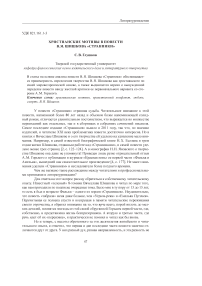Христианские мотивы в повести В. Я. Шишкова "Странники"
Автор: Глушков Сергей Владленович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа повести В. Я. Шишкова «Странники» обосновывается правомерность определения творчества В. Я. Шишкова как христианского по своей мировоззренческой основе, а также выдвигается версия о вынужденной переделке повести ввиду жесткой критики ее первоначального варианта со стороны А. М. Горького.
Христианские мотивы, нравственный конфликт, любовь, смерть, в. я. шишков
Короткий адрес: https://sciup.org/146121918
IDR: 146121918 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Христианские мотивы в повести В. Я. Шишкова "Странники"
У повести «Странники» странная судьба. Читательское внимание к этой повести, написанной более 80 лет назад и объемом более напоминающей солидный роман, отличается удивительным постоянством, что выражается во множестве переизданий как отдельных, так и в сборниках и собраниях сочинений писателя. Самое последнее издание «Странников» вышло в 2011 году, так что, по мнению издателей, и читателю XXI века проблематика повести достаточно интересна. Но в книгах о Вячеславе Шишкове и о его творчестве ей уделено на удивление мало внимания. Например, в самой известной биографической книге Н. Х. Еселева и трем годам жизни Шишкова, отданным работе над «Странниками», и самой повести уделено менее трех страниц [2, с. 122–124]. А в монографии Н. Н. Яновского о творчестве Шишкове она даже не упомянута! Приведен лишь резко отрицательный отзыв А. М. Горького о публикации в журнале «Красная новь» ее первой части «Филька и Амелька», вышедшей как самостоятельное произведение [4, с. 177]. Не много внимания уделяли «Странникам» и исследователи более позднего времени.
Чем же вызвано такое расхождение между читателями и профессиональными критиками и литературоведами?
Для ответа на этот вопрос рискну обратиться к собственному читательскому опыту. Известный «зеленый» 8-томник Вячеслава Шишкова я читал по мере того, как нам приходили по подписке очередные тома. Было мне в ту пору от 13 до 15 лет, то есть я был в возрасте Фильки – одного из героев «Странников». Неудивительно, что повесть «забрала» меня даже больше, чем «Угрюм-река» и «Емельян Пугачев». Перечитывая ее полвека спустя и воскрешая в памяти читательские переживания своего отрочества, я обратил внимание на то, что ярче всего, порой вплоть до мелких деталей, помнятся эпизоды из той самой обруганной Горьким первой части, где, собственно, и представлена жизнь беспризорников. А вторую и третью части, где речь идет об их «перековке», я практически не помнил и читал как бы вновь.
Но и теперь, с высоты обретенного за эти десятилетия житейского и читательского опыта, я отметил, что первая и две последние части повести заметно отличаются друг от друга. У них разный дух, разная направленность, и эта разность не преодолевается общностью героев и видимым единством фабулы. При более внимательном рассмотрении и сюжеты оказываются разными.
В «Фильке и Амельке» герои предоставлены сами себе. Они действительно «странники» в истолкованном Владимиром Далем значении этого слова – «скиталец, бездомный проходимец». Исходя именно из этого значения, беспризорники высекают фамилию «Странников» над могилой умершего собрата. Но корень этого слова многозначен. Странный – это и посторонний, нездешний, чужой, и в то же время необычайный, особенный [1, с. 335–336]. В первой части повести герои-подростки, действительно, как бы отстранены от участия в основном потоке социальной жизни, но каждый из них – особенный человек, не теряющий своей особенности и в той полузвериной стае, в которую они сбились.
Раскрывая внутреннюю жизнь Фильки и Амельки, писатель выявляет главный, нравственный по сути конфликт, переживаемый ими. Он представлен как конфликт с собственной совестью. И голос совести не случайно сильнее оказывается у младшего Фильки, который во всех перипетиях своей скитальческой, бездомной жизни сохраняет воспринятую с ранних лет веру.
Уже на первой странице повести ставший вскоре его наставником слепец Нефед поддерживает порыв голодного мальчугана накормить собаку, вспоминая фразу из Псалтири: «Блажен, иже и скоты милует…» [3, с. 129]. Их странничество с Нефедом, наполненное песнями и стихирами, очевидно относящимися к разряду народной духовной поэзии, Шишков называет «красной жизнью» [Там же, с. 131]. Но и оторванный от этой жизни Амелькой, соблазнившим его плиткой шоколада, Филька душой остается с Нефедом, с теми же стихирами, которые он распевает теперь в трущобе с беспризорниками. Это пение, собственно, и делает его «странником» – странным посетителем этого бесприютного мирка, в котором зло так тесно переплетено с добром, вернее, с естественной тягой к добру, что отделить одно от другого малоопытному Фильке совсем не просто. Но и оступаясь, и ошибаясь, и даже начиная, как пишет Шишков, «въедаться в волчью жизнь бездомников» [Там же, с. 150], Филька сохраняет присущую ему чистоту. Шишков прямо указывает, что основа этой чистоты – вера. Когда они встречаются с Амелькой уже после тюрьмы и многих испытаний, его приятель первым делом спрашивает, заметив, что Филька крестится, заслышав колокольный звон: «Веришь?» – «Верю», – не задумываясь, отвечает Филька. И далее следует характерная авторская ремарка: «Амелька молча улыбнулся» [Там же, с. 403].
В сущности, старший годами и являющийся к тому же главарем шайки беспризорников Амелька все время находится под влиянием Фильки, которого он опекает и защищает именно потому, что видит в нем ту чистоту, к которой неодолимо тянет его самого. Но принять его веру у Амельки не получается. Что и неудивительно: слишком далеко отстоит от храма их бесприютная жизнь. Они лишены не только дома, но и возможности очистить свои заблудшие души покаянием и молитвой.
Филька влечет к себе не только Амельку. Вот маленькая, пяти-шестилетняя Лизка «незаметно тянется к Филькиному сердцу» [Там же, с. 161]. Ребенок мечтает уйти в монастырь, куда ее зовет такой же беспризорный малыш Петенька. Мальчик, переживший смерть родителей, умеет играть только в погост, только могилки строит он на песке. С чужими он не говорит, но на ласковое обращение Фильки откликается сразу, рассказывая, как он приходит на свои «могилки» и молится. «Как же ты молишься?» – спрашивает его Филька. «Петька заморгал воспаленными больными глазами, потер их грязным кулаком и прошептал: – Никак» [Там же, с. 163].
Таких пронзительных эпизодов немало в первой части повести. С необычайной яркостью и огромным сочувствием описывая безрадостное существование обитателей заброшенной баржи, писатель ясно дает понять, что от изнуряющей, выматывающей юные души борьбы за существование беспризорников может отвлечь только любовь, о которой мечтает каждый из них. Зримым воплощением этой любви для всей банды стала 13-летняя мать, получившая прозвище Майский Цветок. Ее окружают всеобщей заботой, одаривают крадеными вещами, вином и фруктами. Амелька объясняет пораженному видом девочки-матери Фильке: «Майский Цветок просила, чтоб, значит, аборт; ну, мы отсоветовали ей, не допустили. Да. И очень распрекрасно сделали. Теперича у нас какая-то заправдышная забота есть, чтобы, значит, матери с сыном было хорошо». Филька тут же «звонко, трогательно, с большим чувством» поет православную стихиру, осуждающую аборты, от которой «всем троим стало хорошо» [Там же, с. 140].
Подлинным именем Майского Цветка – Мария – писатель как бы напоминает читателю о том, что мать с младенцем для всякого христиански мыслящего человека представляет образ Самой Богородицы, но это ясно и без того.
Удивительно пластично описывает Шишков внешность Майского Цветка, увиденную глазами Фильки: синенькое ситцевое платье, лакированные, но большие, не по ноге, башмаки и браслетка на худой, как палочка, руке. «Хороши задумчивые темные глаза ее: в них была и непонятная скорбь, и что-то детское, обиженное, такое знакомое Фильке» [Там же, с. 139].
Прозвище «Майский Цветок» оказывается пророческим. Жаждущая такой же всеобщей любви Дунька Таракан из черной зависти убивает и ее, и ребенка. Жажда любви оборачивается смертью, и только смерть, в которую безбожные полузверьки не хотят верить, напоминает им о вечности, будоража их дремлющую совесть.
О смерти много говорится на всем протяжении повести, но более всего в первой части, которая начинается со смерти родных Фильки и завершается «Большой смертью». Так назвал Шишков последнюю главку этой части, в которой несчастный, вконец запутавшийся Амелька по ошибке убивает самого дорогого для него человека – собственную мать, после чего, обезумев, пытается убить и своего друга Фильку, и самого себя.
Этот финал по сути и по форме представляется именно финалом, не предполагающим продолжения. Нравственная гибель Амельки обусловлена не только внешними, но и внутренними причинами. Беспокойная совесть не привела его ни к вере, ни к добру. Вот как описывает его состояние накануне страшного конца Шишков: «Его душа была охвачена злобной жалостью к своей судьбе, к матери, к убитому белогвардейцами отцу. Инстинкт жестокой мести овладел им вдруг». В порыве злобы он крушит все вокруг. Достается и ни в чем перед ним не повинной старухе-нищенке. Приступ завершается коротким, не облегчившим душу раскаянием. «Бабка! – крикнул он нищенке. – Прости меня, бабка» [Там же, с. 245]. В его понимании восстановить попранную справедливость можно, только противопоставив злу зло. Поэтому он и выбирает ненавистного «барыгу» в качестве жертвы, руководствуясь, в сущности, тем самым «классовым инстинктом», что так усиленно внедрялся в него окружающим миром. Но вместо «барыги» его жертвой становится собственная мать.
Возникает вопрос: почему, поставив под «Филькой и Амелькой» дату написания «Август – декабрь 1928 г.» и опубликовав эту вполне законченную вещь в журнале как самостоятельное произведение, Вячеслав Шишков взялся писать продолжение? Рискну предположить, что к этому решению его привели не столько творческие, сколько совсем иные соображения.
Конечно, ругательный даже не отклик, а окрик Горького, отнесшего «Фильку и Амельку» к разряду «неряшливо состряпанной беллетристики» и назвавшего повесть небрежной и не заслуживающей оплаты как «высокое искусство», должен был сильно огорчить Шишкова, когда-то, при первых его шагах в литературе, обласканного и поддержанного маститым писателем. Но за этим явно несправедливым, хотя и объяснимым отзывом могли последовать и иные, куда более суровые оценки. Шел 1930 год. В стране разворачивалась насильственная коллективизация, осуществлявшаяся под прикрытием лозунга об «обострении классовой борьбы». А повесть Шишкова, хоть и не явно, классовую ненависть осуждала, как несовместимую с нравственными нормами. Совсем недавно, после выхода в 1928 году первой части романа «Угрюм-река», сибирские РАППовцы уже объявляли Шишкова «классовым врагом». Если же учесть, что заодно с кулачеством репрессиям подвергались и служители церкви, и просто верующие, очевидный христианский дух «Фильки и Амельки», где почти все вызывающие сочувствие автора герои – и дед Нефед, и Филька, и добряк Дизинтёр – люди глубоко верующие, мог стать дополнительной причиной серьезных гонений и на автора, и на саму повесть. Спасти положение могло только «правильное» продолжение, за которое Шишков и взялся явно в ущерб работе над «Угрюм-рекой».
Список литературы Христианские мотивы в повести В. Я. Шишкова "Странники"
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4 М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1955. 574 с.
- Еселев Н. Х. Шишков. М.: Современник, 1976. 239 с.
- Шишков В. Я. Повести. Минск: Беларусь, 1986. 542 с.
- Яновский Н. Н. Вячеслав Шишков: Очерк творчества. М.: Худож. лит., 1984.272 с.