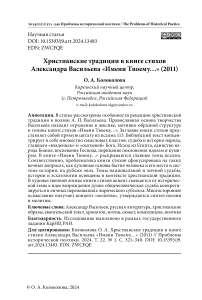Христианские традиции в книге стихов Александра Васильева «Имени твоему...» (2011)
Автор: Колоколова О.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены особенности рецепции христианской традиции в поэзии А. П. Васильева. Православная основа творчества Васильева находит отражение в лексике, мотивно-образной структуре и топике книги стихов «Имени Твоему…». Заглавие книги стихов представляет собой прямую цитату из Псалма 113. Библейский текст концентрирует в себе множество смысловых пластов: судьба и история народа, ставшего «владением» и «святыней» Бога, Исход из Египта, единство народа Божия, воспевание Господа, порицание поклонения идолам и кумирам. В книге «Имени Твоему…» нашли отражение главные темы Псалма. Соответственно, проблематика книги стихов сфокусирована на таких вечных вопросах, как духовные основы бытия человека и его место в системе истории, на рубеже эпох. Темы национальной и личной судьбы, истории и эсхатологии освещены в контексте христианской традиции. В художественной логике книги стихов акцент смещается от исторической темы к идее возрождения души: общечеловеческая судьба конкретизируется в личных переживаниях лирического субъекта. Многостороннее осмысление получает концепт «молитва», утверждается синтез поэзии и молитвы.
Александр васильев, русская литература, христианские образы, евангельский текст, хронотоп, мотив, сюжет, композиция, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/147243494
IDR: 147243494 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13483
Текст научной статьи Христианские традиции в книге стихов Александра Васильева «Имени твоему...» (2011)
Acknowledgements. The reported study was conducted as part of the state assignment to the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences. For citation: Kolokolova O. A. Christian Traditions in Alexander Vasilyev’s Book of Poems “To Your Name…” (2011). In: Problemy istoricheskoy poetiki [ The Problems of Historical Poetics ], 2024, vol. 22, no. 1, pp. 321–340. DOI: 10.15393/j9.art.2024.13483. EDN: ZWCFQE (In Russ.)
Т ворчество Александра Петровича Васильева было высоко оценено современниками, вызвало интерес читателей, поэтов, критиков и литературоведов.
А. П. Васильев (1953–2020) родился в Петрозаводске, детские годы провел в заонежских деревнях Карелии. Окончив в 1973 г. Петрозаводское речное училище, он работал на судах загранплавания, а впоследствии сменил около десятка профессий. Первые публикации стихотворений Васильева появились на страницах республиканских газет в середине 1970-х гг. В дальнейшем его произведения печатались в журналах «Молодая гвардия» и «Север», еженедельнике «Завтра», были включены в коллективные сборники «Первоцвет» (1984), «Любимое и безответное» (1992), альманах «Молодой гений» (1991). Книга стихов «Восстань, душа» полностью вошла в альманах поэтов Карелии «Волны трав»1 (1998) и была высоко оценена поэтом В. Ф. Боковым (1914–2009)2. В 2002 г. Васильев был принят в Союз писателей России. В 2011 г. отдельным изданием вышла книга стихов «Имени Твоему…».
Жизни и творчеству Васильева посвящена статья в биобиблиографическом словаре «Писатели Карелии» [Писатели Карелии: 9], а также изданные на страницах периодической печати очерки В. П. Судакова3, А. И. Валентика4, О. Тараканова5, А. В. Воронина6. Вопросы творчества и биографии поэта получили более детальную разработку в научных работах Е. И. Марковой [Маркова, 2000, 2003, 2023], [100 лет литературе Карелии: 421]. Исследовательница рассмотрела лирику Васильева (на материале сборника «Восстань, душа…») в контексте рус ской поэзии Ка релии 1990-х гг. — творчества Е. Сойни, Е. Валги,
Д. Вересова, Е. Пиетиляйнен, С. Родионовой, П. Шувалова. Эти поэты выходят за рамки исторической эпохи, обращаясь к вопросам эсхатологии, возрождения души [Маркова, 2003: 203]. Автор отметила, что «усиливается сакральный смысл текста», тема христианской любви и «проблема веры в национальное бессмертие России» становятся объектом художественных исканий [Маркова, 2000: 340].
Евангельский текст7— один из важнейших факторов, влияющих на формирование стиля и поэтики Васильева. Рецепция христианской традиции в книге стихов «Имени Твоему…» реализуется в следующих категориях: образ Христа; образы православных святых (Георгий Победоносец, Сергий Радонежский); библейские сюжеты и образы (Каин и Авель, Исав и Иаков, Исход, Иуда); образы икон и креста (собирательный образ православной иконы, икона «Спас Ярое Око», икона Божией Матери «Державная»); сакральное пространство (Яше-зерский монастырь, храмы, часовни и церкви); цитаты из текстов Священного Писания (Пс. 113:9; Быт. 4:9); исторические события (Крещение Руси, история Пустозерских страдальцев); христианские календарные праздники и посты (Рождество Христово, Святые дни от Рождества Христова до Крещенского Сочельника (Святки), Великий пост, День памяти святого великомученика Георгия Победоносца, Прощеное воскресенье); важнейшие понятия христианского вероучения (милосердие, молитва, грех, покаяние, прощение, благодарность, жертвенность и др.).
Художественный текст обнаруживает глубокое взаимодействие с христианской традицией на уровне лексики, мотивно-образной структуры и топики стихотворений. Подтверждение тому содержится уже в заглавии, которое представляет собой прямую цитату из псалма 113: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей» (Пс. 113:9). В письме к В. П. Судакову от 23 февраля 2004 г. Васильев описал работу над книгой стихов: он менял количество разделов и структуру сборника, по-разному «сводил свои стихи несколько раз и в нескольких вариантах»8. При этих изменениях поэт сохранил изначальную идею озаглавить книгу «Имени Твоему…»: «Неизменным остается название, позаимствованное из 113 псалма»9.
Стих 9 в Синодальном переводе условно открывает вторую часть псалма 113 (ст. 9–26), в то время как в изданиях Псалтыри, которые следуют масоретскому тексту, представлено два отдельных псалма (ст. 1–8 и 9–26). В первой части повествуется о выходе Израиля из Египта и прославляется власть Бога над силами природы. В стихах 1–2 акцентируется перелом, который произошел в истории Израиля после Исхода из Египта. Дом Иакова вошел в Египет как семья, а вышел как народ, который стал «святынею» и «владением» Господа (Пс. 113:1). Воспеваются чудеса, явленные Богом: уходит море, река Иордан поворачивает вспять, сотрясаются холмы и горы. Употребление глаголов в прошедшем и настоящем времени указывает на единство истории и связь времен: воспеваются не только явления чуда Господня в древние времена, но и события настоящего, объединяющие верующих.
Вторую часть псалма (ст. 9–26) называют Песней в честь единого истинного Бога, Бога Израилева [Ириней Пиковский, Эйвазов: 700]. Прославление Живаго Бога, внемлющего страданиям Своего народа, сближает псалом с гимном, в котором выделяют голоса священника (ст. 11–16; 20–23), храмовых певцов (ст. 17–19) и всего собрания верных [Ириней Пиковский, Эйвазов: 700]. Перед лицом Господа неба и земли сокрушаются все препятствия, бессильна становится мощь Египта, его армия и волхвы. Стих 9 (цитата из которого заимствована Васильевым в качестве заглавия книги) представляет собой прославление Бога и надежду на Его милость к человеку, пребывающему в греховной слабости10.
В псалме обозначена также тема кумиров — рукотворные «идолы, дело рук человеческих» (Пс. 113:12), и материальные блага подвергаются порицанию. Небольшой по объему текст, объединенный в литургической практике в единый псалом, концентрирует в себе множество смысловых пластов: судьба и история народа, ставшего «владением» и «святыней» Бога, Исход из Египта, единство народа Божия, воспевание Господа и явленных Им чудес, порицание поклонения идолам и кумирам. В книге стихов Васильева «Имени Твоему…» нашли отражение главные темы обеих частей псалма.
Структуру книги составляют четыре цикла стихотворений: «Черная Бронза», «По деревянным столицам», «Зачерпнул этой жизни…», «Исправленному верить». Автор использует прием кольцевого построения: сборник открывается стихотворением «Исправленному верить», стоящим обособленно (не включено ни в один из циклов), и оканчивается одноименным циклом.
В первом стихотворении отражены основные темы сборника в целом: краткость человеческого бытия, связь материального и духовного, надежда на восстановление родовой связи через поколения, одиночество лишнего человека. Лирический герой ощущает потребность подвести итоги, но неудовлетворенность собственной жизнью вызывает горькую усмешку:
«Незваный, я у времени в гостях. Пророки на других возложат руки. Но верю я, что на моих костях Поставят храм неведомые внуки» («Исправленному верить»)11.
Первая строка последней строфы («Грядущего нам не дано узнать») является парафразом цитаты, помещенной в краткой биографической справке на обложке книги: «Грядущего не ведаю, настоящего не имею, прошлое в себе искоренил». Цитата оформлена в кавычки, но ее авторство не указано. Источником является исторический роман С. П. Бородина «Дмитрий Донской» (1941), повествующий о судьбе и деяниях объединител я русских земель, князя Дмитрия Донского.
Центральная тема произведения — противостояние Руси Золотой Орде. Эпическое полотно, ставшее итогом многолетнего изучения писателем исторических документов, представляет широкую картину народной жизни Руси XIV века. Васильев цитирует речь Алиса, искусного зодчего, воздвигшего Тай-ницкую башню Московского Кремля и умерщвленного князем после строительства12. По всей видимости, поэту был хорошо знаком текст романа. Предположение подтверждается не только цитированием текста в биографической справке и парафразом в стихотворении «Исправленному верить». Сюжеты стихотворений «Осень», «Крестилась Русь в апостольском законе…», «Погоня» коррелируют со сценами романа. Необходимо отметить, что тема истории и связи времен является ведущей в первом цикле стихов «Черная Бронза».
Образ «цепочки времен» становится центральным в цикле: когда цепь распадается, наступает эпоха безвременья и смуты. Соответственно, единство времен, то есть наследование традиции, личная и историческая память, наоборот, открывают путь к будущему возрождению. Е. И. Маркова отмечает общие черты в поэзии Карелии 1990-х гг.: «Смутное время описывается как бесовское, воздействие которого человек порой не выдерживает: он ощущает душевный надлом, депрессию, не может ни в прошлой, ни в нынешней жизни обрести духовную опору. В результате распавшейся связи времен ощущение безнадежности, исторического тупика становится доминирующим» [Маркова, 2003: 205]. А. П. Васильев указывает на присутствие в лирике Д. А. Вересова этого образа с противоположной коннотацией. В рецензии на книгу стихотворений Вересова «Сокрушение снега» Васильев пишет: «Здесь видна связь времен, не "распавшаяся цепочка" двадцати веков, а века, которые протекли сквозь меня золотою рекою»13.
В книге стихов «Имени Твоему…» отчетливо чувствуется неудовлетворенность лирического героя собственной жизнью, истоки этого мотива усматриваются в биографии автора (долгая борьба с болезнью, несколько раз пережитая клиническая смерть, жизненные сложности, выпавшие на долю поэта). Трагические ноты приобретают также размышления о судьбе России.
Мировоззрение автора и биографическая основа художественных текстов стали предметом обсуждения на страницах критической литературы. По словам В. П. Судакова, поэзии Васильева свойственна «пронзительность реализма» с «изрядной долей горечи» и «неистребимой надеждой»14. Трагическую основу творчества поэта отмечает А. И. Валентик: «Стихи А. Васильева — это мучительные размышления над вопросом: почему эпоха надежд вновь обернулась в России смутным временем… <…> Русской боли в его сердце переболело столько, что порой кажется, сами строки болят»15.
В цикле «Черная бронза» историческая тема интерпретирована в эсхатологическом ключе: получают осмысление вопросы конечных судеб человечества, Страшного суда. В стихотворении «Безвременье» эсхатологические мотивы связаны с выходом за пределы истории нынешнего мира:
«Рассыпали цепь времени мы сами, Пошло безвременье — нули на всех часах. Сбывается пророчество Исайи…» (24).
Предчувствие грядущей катастрофы отражено в образе оловянного дождя:
«Колотят оловянные дожди,
И капли острым пальцем тычут в спину.
Куда уйти? В какую Палестину?
В какой исход? В какие миражи?» («Колотят оловянные дожди…») (8).
Исход как ветхозаветное событие трансформируется в диалектический образ в контексте поиска ответов на вопросы современности. С одной стороны, выход из Египта символизирует желанное обретение свободы, в которой явлена забота Господа о своем народе. С другой, наблюдается своеобразное снижение образа посредством антономазии, основанной на аллюзивном употреблении имени проводника и пророка:
«Пора приобретения потерь.
Не знаем, что пожнем, а что посеем. И что же нам? Бродить в песках теперь По сорок лет за каждым Моисеем?
— Утешься в простоте и не казнись, Что не расслышал стук глаголов тайных, Пока поэты постигают смысл Синонимов "кумиры" и "болваны"» («Пора приобретения потерь…») (7).
Растерянность человека, его одиночество в переломный момент истории вновь возвращают лирического героя к ветхозаветным событиям. В стихотворении «Два брата» отсылка к ветхозаветному сюжету прозрачна. Встреча героев происходит будто бы случайно «посреди глухого леса на ночной дороге» (4). Образы хронотопа — острог и костер («Повстречались двое, сели молча, как в остроге, / У случайного, как будто странного костра») — связаны с предыдущим стихотворением в цикле, где лирический герой обращается через столетия с молитвенным призывом «Восстань, душа, из праха, / Из пепла пусто-зерского костра, / Из копоти свечи в темнице патриарха…» («Восстань, душа!…») (4). Молитва «старого отца», чьим незримым присутствием наполнено пространство, не услышана героями:
«Чрез костер перешагнули, словно через тело, И, не узнаны друг другом, уходили в тьму.
— Где же брат твой? — им вдогонку тихо шелестело. Отвечали: "Я не сторож брату моему…"» (4).
Цитата из книги Бытия воспроизводится в стихотворении с иной коммуникативной установкой. В библейском тексте Каин, ожесточившись, отвечает на вопрос Господа: «…где Авель, брат твой?» — вопросом: «…разве я сторож брату моему?» (Быт. 4:9). Вопросительно-риторическое предложение заключает в себе «дерзкий ответ Богу», Каин «как бы даже обвиняет Его за столь неуместный вопрос» [Лопухин: 98]. В стихотворении Васильева риторический вопрос меняется на отрицательное предложение с повествовательной структурой, которое в данном случае приобретает значение холодного равнодушия и отречения. В контексте произведения сюжет о Каине и Авеле получает иную интерпретацию: живую душу человеческую разрушает не братоубийство, а трагедия «неузнавания», неприятия брата своего, когда бессильна даже молитва отца.
В целом, концепт «молитва» получает в книге стихов «Имени Твоему…» глубокое и многостороннее осмысление. Васильев придавал большое значение взаимосвязи поэзии и молитвы:
«О близости, о возможном едином происхождении поэзии и молитвы говорили многие великие. О стихах, как о "молитве данной минуты", писала Зинаида Гиппиус, а за столетие до нее — Евгений Баратынский. Эту же близость отмечали и Тютчев, и Лермонтов, и Пушкин: "Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв"»16.
Цитата, приведенная поэтом, указывает на источник его размышлений — статью З. H. Гиппиус «Нужны ли стихи?» (1904)17. Гиппиус развивала идеи сакрализации слова, считала молитву «естественной и необходимейшей потребностью человеческой природы», а поэзию — одной «из форм, которую принимает в человеческой душе молитва»18. Выделяя среди поэтов-предшественников Пушкина, Гиппиус утверждает, что его «стихи-молитвословия» вне времени: «Он — всепроникающ и вечен как солнце»19. При этом, по мнению поэтессы, творчество других авторов, в особенности, ее современников, «принимает все более определенный характер молитвы», становится более субъективно и воплощает «ощущение данной минуты», «свое святое». В связи с этой субъективностью и мимолетностью переданного в стихотворении чувства, поэзия, как утверждает Гиппиус, оказывается «бездейственной и беспомощной», «меньше всего может что-либо дать читателю»20. «Пока мы все, — заключает Гиппиус, — писатели и читатели, не найдем общего Бога, или хоть не поймем, что стремимся все к Нему, — Единственному, — до тех пор молитвы, — стихи наших поэтов, — живые для каждого из них — будут непонятны и не нужны ни для кого»21. Предполагаем, что именно эти размышления о сущности поэзии привели Васильева к мысли о том, что «совместить данную минуту и вечность — вот задача поэта»22. Синтез поэзии и молитвы утверждается в стихотворении «Я не знаю молитв…»: «Но стихи — это та же молитва…» (78).
Семантика образа поэта в сборнике «Имени Твоему…» коррелирует с традициями русской литературы Карелии конца ХХ в. В художественном мире Васильева поэт — свидетель совершаемого на земле Божьего замысла. Тем не менее, будучи человеком, хотя и отмеченным Господом, поэт не остается беспристрастным и не всегда находит в себе силы запечатлеть трагические моменты истории. В молитвенном обращении к Господу герой просит:
«Господи! Зачем Тебе свидетель? Господи! Дозволь закрыть глаза. Мой народ, он на щеке столетий Словно незаметная слеза» («Рим») (21).
Поэт, транслируя слово-молитву, становится причастным к тайне возрождающего и созидающего Слова.
Идея сакрализации Слова отражена также в стремлении преодолеть катастрофичность эпохи с помощью молитвы. Эта мысль воплощена в историческом контексте: причины трагедии настоящего времени, одиночества, неустроенности и разобщенности людей лирический субъект ищет в ошибках прошлого. Для того чтобы восстановить духовные основы, необходимо найти выход из распутья и безвременья, исторического тупика, который создается повторением печального опыта. В этой связи цитируется исторический труд Прокопия Кесарийского «Война с готами»23:
«…Я вновь листаю летописи старые,
Но нарушает мой ночной уют
То, что о нас сказал Прокопий из Кесарии:
"Судьбы не знают и не признают…"» («Крестилась Русь в апостольском законе…») (14).
Поэт отмечает ряд событий: Крещение Руси, татарское иго, Куликовская битва, опричнина, Смута, история Пустозерских страдальцев. В рамках исторической темы Васильев экспериментирует с формой произведения и обращается к различным источникам в проработке сюжетной линии. К примеру, стихотворение «Опричники» (19) написано в жанре триолета, истоки которого восходят к европейской традиции24.
Предполагаем, что включенный автором в исторический вектор сюжет о Куликовской битве связан с осмыслением романа С. П. Бородина «Дмитрий Донской». Молитва Святого Сергия Радонежского способствовала воссоединению князей и исходу Куликовской битвы:
«Крестилась Русь в апостольском законе, Так крест меча стал символом добра.
Вели коней на поводу, и кони Святую воду пили из Днепра.
Сдавило жизнь ордынскими годами, Степняк от крови нашей уставал, Пил кровь коня, кровавыми губами П окорных полонянок целовал.
Терпели, плакали, орали бестолково. Молился Сергий, прял основы нить. И взлет Руси на поле Куликовом Не повторить. И трудно объяснить…» («Крестилась Русь в апостольском законе…») (13).
В синтаксическом ряду из трех сказуемых представлена градация глаголов по степени их экспрессивности от передающего значение смирения «терпели» до близкого к бунту «орали бестолково». Спокойствие духа и созидающая функция молитвы Святого, воплощенная в тексте посредством метафоры «прял основы нить», противопоставлена крику толпы, в котором неразличимы отдельные голоса. Вымоленная победа на Куликовом поле сродни чуду, поэтому необъяснима с точки зрения материалистического сознания. О сакральном смысле Победы Васильев писал в статье, посвященной Великой Отечественной войне: «О войне сказано много. Но вот значение Победы, ее тайный, что ли, священный смысл, нами еще не понят. Ведь не просто же так была Победа нам дарована. Мы выиграли войну. Но есть опасность проиграть Победу»25.
В стихотворении «Изменное время. Изморы. Изгоны…» актуализируется заявленная в заглавии идея упования на Небесные силы:
«Изменное время. Изморы. Изгоны. Цепляемся все да за древо рожна.
Чуть теплятся в красном углу две иконы, Которым Россия молиться должна» (28).
Используя анафору, автор приближает стихотворение к специфике молитвенного стиха, которому «в большей степени свойственны не завершающие строку ритмические сигналы (рифмы), а начальные» [Прохватилова: 52]:
«Бессмыслица долгой бессонницы ночи… Пора наступает — с трудом! — понимать: Тобою спасемся, Спас Ярые Очи, Тобою, Державная Божия Мать» (28).
Примечательно, что образ иконы «Спас Ярое Око» имеет непосредственное отношение к теме Куликовской битвы. В научной литературе широко описано оплечное изображение Спасителя из Успенского Собора в Москве, созданное в 40-е гг. XIV в. [Попова: 126]. Икона использовалась при благословении на ратные подвиги.
В художественной логике книги стихов акцент смещается от исторической темы к идее возрождения души: общечеловеческая судьба конкретизируется в личных переживаниях лирического субъекта. В циклах «По деревянным столицам», «Зачерпнул этой жизни…», «Исправленному верить» усиливается внимание к духовному миру и индивидуальному пространству героя.
Богоискательство лирического героя выражается в неугасающем желании совершить молитву, которое не находит воплощения по причине разного рода препятствий: отсутствия времени, чувства тревоги.
«Праздники. Святки. Светло и морозно. Вспомнить хотел покаянный канон.
Что-то мешает заплакать бесслезно, Что-то тревожит меня за окном» («Праздники. Святки. Светло и морозно…») (35).
Лирический герой не раз подчеркивает: он не знает или забыл слова молитв («Нет бы, стоя нам пред Совершенным, / Не умея молиться, молчать») (30). Васильев акцентирует роль канонических текстов православных молитв:
«Да, мы молимся Богу и своими словами, но все же предпочитаем канонические тексты из Молитвослова. Недаром, наверное, и книги Священного писания разделены на стихи, а среди величайших поэтов называют и царя Давида-псалмопевца, Соломона, Исайю, Иеремию и других пророков, и великих отцов церкви. И молитвенников Земли Русской. <…> Наверное, именно таким трудом и становится "молитва данной минуты" молитвой канонической, в которой уже и букву нельзя потревожить, чтобы не разрушить дух»26.
Возможно, такое несоответствие обосновано характеристикой обобщенно-собирательного образа героя, принадлежащего эпохе 1990-х гг., когда только начинается путь духовного возрождения. Время в художественном мире Васильева часто приурочено к православному календарю. События лирического сюжета происходят в Рождество Христово, Святые дни от Рождества до Крещенского Сочельника (Святки), Великий пост, День памяти святого великомученика Георгия Победоносца, Прощеное воскресенье. Но цикличность времени, непрерывная последовательность церковных праздников и будней — скрепы, на которых основано течение жизни, — утеряны:
«Остановиться, помолиться б горячо, Вернуть на место праздники и будни… Но жарко дышит в левое плечо Мой молча ухмыляющийся спутник» («Я в зеркало гляжу: опять в пути…») (9).
Рецепция жанра молитвы прослеживается также на уровне формы произведения: заимствованы некоторые элементы и языковые особенности молитвенного жанра. В стихотворении «Оторваться бы мне от тоски…» цитируется заключительная часть Краткого славословия: «…Успокоенность ныне и присно / И во веки веков — обрести…» (71). Используется повелительное наклонение, выраженное синтетической формой второго лица единственного числа глагола («даруй», «прости», помилуй» и т. д.) или аналитической формой глагола в третьем лице единственном числе с частицей да («Да минует меня…»). Задействованы также звательный падеж, анафора и синтаксический параллелизм: «Господи! Зачем Тебе свидетель? Господи! Дозволь закрыть глаза» (21); «Услыши, Господи! Даруй Твое спасение, / Прости врагов. Но и помилуй нас…» (29); «Дай, Боже, до своей могилы / Пройти с тобою до конца…» (41).
К примеру, в стихотворении «Молитва кануна Смуты» (15) жанр определен в названии. Произведение сочетает в себе элементы покаянной («Но и сомнения случайную заразу, / И неприкаянных нас, Господи, прости») и просительной молитвы («Не дай нам, Боже, нового набега / И упаси, Господь, от мятежа…»)27. Адресат молитвенного слова в поэзии Васильева в большинстве случаев один: молитва обращена к Господу, единожды — к Богоматери.
Стихотворение «Не моление, плач о себе…» близко к так называемой инвективной молитвенной поэзии, жанр которой нередко использовался З. Гиппиус в творчестве военного периода [Герасимова: 240]. В произведении нет эксплицитно выраженных богоборческих мотивов, но чувство трагического отчаяния и безысходности усилено посредством жанровой установки, данной в самом стихотворении. Исконная связь жанра плача с фольклорной традицией похоронной поэзии подкреплена образами зажженной свечи/лучины и мотивом отпевания. В строке «Я отпетый? Неужто отпели?» страдательное причастие прошедшего времени, образованное от глагола «отпеть», напрямую связано с похоронной семантикой. В то же время грамматическая форма может быть прочитана как полное прилагательное, «носящее яркую печать экспрессии осуждения» со значением «безнадежно-неисправимый, отъявленный», «пропащий, вычеркнутый из списка достойных жизни людей» [Виноградов: 416–417]. В таком случае лексемы «отпетый» — «отпели» образуют парономастическую пару (следует учитывать, что парономазия является характерным приемом идиостиля Васильева). Лексема «отпетый» выступает в роли контекстуального синонима прилагательному «окаянный», которое, в свою очередь, входит в парономастический ряд «окаянный — покаяние — Каин». Тотальное одиночество лирического героя («безлюдно, безбожно») приводит к ощущению себя как лишнего человека («я подкидыш, изгой и бастард»).
«Не моление, плач о себе. Отлучили меня, отлучили! Я не свечку поставлю, лучину По своей окаянной судьбе.
Душу выжег на бледном огне, В пыль истер в казематах острожных. Ночь тиха. И безлюдно, безбожно. Ангел ангелу врет обо мне.
Не отмыть мне такой ореол. Я отпетый? Неужто отпели? И когда это только успели Приготовить осиновый кол? Я подкидыш, изгой и бастард, Вечный житель убогих окраин… Покаяние? Разве я Каин?
Я же третий, я средний брат» (64).
Таким образом, проблематика книги стихов «Имени Твоему…» сфокусирована на таких вечных вопросах, как духовные основы бытия человека и его место в системе истории, на рубеже эпох. Евангельский текст в поэтике Васильева воплощен в идейно-смысловом поле христианского по духу художественного текста. Поэт отрицал использование категорий христианской культуры для создания формы или стилизации произведения:
«Сегодня, наверное, все, пишущие стихи, используют религиозную тематику, словарь и сюжеты из Библии. Все, по крайней мере, научились слово "Бог" писать с прописной буквы. Большинство при этом, правда, нарушает третью заповедь. Но вспомним: "Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое; ибо от избытка сердца говорят и уста его" (Евангелие от Луки 6:45)»28.
Рецепция христианской традиции влияет на особенности строения, тематического комплекса и мотивно-образного ряда книги. Заглавие указывает на признание Бога как Творца и прославление Его деяний, упование на Его волю. Тем самым разрешается главный конфликт книги: стираются временные и пространственные границы — лирический герой ищет выход из трагической ситуации современности в событиях ветхо- и новозаветной истории. Христианские доминанты поэтики Васильева раскрывают темы общечеловеческой и личной судьбы.
Список литературы Христианские традиции в книге стихов Александра Васильева «Имени твоему...» (2011)
- Бобырева Е. В. Коммуникативный компонент жанров молитвы и исповеди в пространстве религиозного дискурса // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе: межвуз. сб. науч. тр. Орел, 2013. С. 100–106.
- Виноградов В. В. История слов: ок. 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними связ. / ред. Шведова Н. Ю.; Рос. акад. наук. Отд-ниелит. и яз. Науч. совет «Рус. яз.». Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. М.: Толк, 1999. 1138 с.
- Герасимова З. С. Поэтика стихотворной молитвы в цикле З. Гиппиус «Война» // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. № 1 (51). С. 240–244 [Электронный ресурс]. URL: https://oreluniver.ru/public/file/archive/201301.pdf (01.09.2023).
- Дюжев Ю. И. Писатели Карелии: биобиблиогр. словарь. Петрозаводск: Острова, 2006. 304 с.
- Ириней (Пиковский), иеромонах, Назарий Эйвазов, иерей. Псалтирь: книга жизни: комментарий к тексту Синодальной Библии. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2023. 960 с.
- Лопухин А. П. Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета: в 7 т. 4-е изд. М.: Дар, 2009. Т. 1: Ветхий Завет. 1055 с.
- Маркова Е. И. Русская литература Карелии 1990-х годов. Лирика // История литературы Карелии: в 3 т. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. Т. 3. С. 329–340.
- Маркова Е. И. Возродись, душа…: обзор поэзии Карелии 1992–2000 гг. // Север. 2003. № 1–2. С. 203–209.
- Маркова Е. И. Накануне Святого Георгия: к 70-летию поэта Александра Васильева // Север. 2023. № 9–10. С. 214–216.
- Мишланов В. А. Молитва как речевой жанр // Прямая и непрямая коммуникация: сб. науч. ст. Саратов: Колледж, 2003. С. 290–302.
- Попова О. С. Икона «Спас Ярое Око» из Успенского Собора Московского Кремля // Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. М.: Наука, 1977. С. 126–148.
- Прохватилова О. А. Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи. Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 1999. 362 с.
- 100 лет литературе Карелии. Время. Поиски. Портреты / Е. И. Маркова, Н. В. Чикина, О. А. Колоколова, М. В. Казакова. Петрозаводск: Periodika, 2020. 432 c.