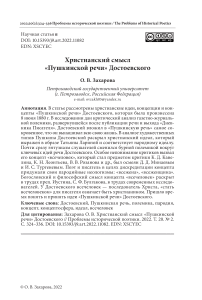Христианский смысл пушкинской речи Достоевского
Автор: Захарова Ольга Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены христианские идеи, концепции и концепты «Пушкинской речи» Достоевского, которая была произнесена 8 июня 1880 г. В исследовании дан критический анализ газетно-журнальной полемики, развернувшейся после публикации речи и выхода «Дневника Писателя». Достоевский вложил в пушкинскую речь самое сокровенное, что он вынашивал всю свою жизнь. В анализе художественных типов Пушкина Достоевский раскрыл христианский идеал, который выражен в образе Татьяны Лариной и соответствует народному идеалу. Почти сразу энтузиазм слушателей сменился бурной полемикой вокруг ключевых идей речи Достоевского. Особое непонимание критиков вызвал его концепт «всечеловек», который стал предметом критики К. Д. Кавелина, К. Н. Леонтьева, В. В. Розанова и др., был осмеян Д. Д. Минаевым и И. С. Тургеневым. Поэт и писатель в целях дискредитации концепта придумали свои пародийные неологизмы: «всежена», «всеженщина». Богословский и философский смысл концепта «всечеловек» раскрыт в трудах преп. Иустина, С. Ф. Булгакова, в трудах современных исследователей. У Достоевского всечеловек - последователь Христа, «стать всечеловеком» для писателя означает быть христианином. Пришло время понять и принять идеи Пушкинской речи Достоевского.
Достоевский, пушкинская речь, полемика, пародия, концепт, концептосфера, идеал, всечеловек
Короткий адрес: https://sciup.org/147237942
IDR: 147237942 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11082
Текст научной статьи Христианский смысл пушкинской речи Достоевского
«Пушкинская речь» Ф. М. Достоевского была выдающимся событием в русской и мировой литературе. Она имела важное значение в жизни и творчестве самого писателя. В его эпистолярном наследии нашли отражение муки и радость творчества, переживания писателя, предшествующие празднику.
Накануне Пушкинского праздника у Достоевского было предчувствие будущей травли. В письме К. П. Победоносцеву от 19 мая 1880 г. из Старой Руссы Достоевский писал: «И оказывается, как я уже и предчувствовал, что не на удовольствие поеду, а даже, может быть, прямо на неприятности. Ибо дело идет о самых дорогих и основных убеждениях. Я уже и в Петербурге мельком слышал, что там в Москве свирепствует некая клика, старающаяся не допустить иных слов на торжестве открытия, и что опасаются они некоторых ретроградных слов, которые могли бы быть иными сказаны в заседаниях Люб<ителей> российской словесности…»1. «Даже в газетах, — продолжает он, — уже напечатано про слухи о некоторых интригах. Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз в самом крайнем духе моих ( наших то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений, а потому и жду, может быть, некоего поношения. <…> Впрочем, что Вас утруждать мелкими сплетнями. Но в том-то и дело, что тут не одни только сплетни, а дело общественное и большое, ибо Пушкин именно выражает идею, которой мы все (малая кучка пока еще) служим, и это надо отметить и выразить: это-то вот им и ненавистно» ( Д30 ; т. 301: 156). Писатель тщательно подбирал каждое слово, размышлял о том, как его речь будет воспринята. Для него была важна эмоциональная реакция слушателей и читателей.
В «Пушкинской речи» Достоевский стремился выразить все самое заветное и сокровенное из своих убеждений. Это осознавали и его оппоненты. Так, А. Д. Градовский заметил, что в «Пушкинской речи» «г. Достоевскій выразилъ “святая святыхъ” своихъ убѣжденій», это «великій религіозный идеалъ, мощная проповѣдь личной нравственности, но нѣтъ и намёка на идеа-лы общественные»2. На самом деле, Достоевский выразил не личный, не общественный, а национальный идеал, который он возводил к творчеству Пушкина.
Анализируя творчество Пушкина, Достоевский выделяет три периода. Он не называет и не хронометрирует их, рассчитывая, что это сделает сам читатель. Каждый период характеризуют определенные художественные типы. В первый период Пушкин — оригинальный поэт. Смысл его творчества выражен в «отрицательном типе» — типе «историче-скаго русскаго страдальца», «скитальца», который зародился «въ началѣ втораго столѣтiя послѣ великой Петровской реформы, въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, оторванномъ отъ народа, отъ народной силы»3. Он воплощен в Алеко и Евгении Онегине. Этому типу писатель противопоставил Татьяну — «типъ твердый, стоящiй твердо на своей почвѣ», «типъ положительной красоты, это апоѳеоза русской женщины», для которой «счастье не въ однихъ только наслажденiяхъ любви, а и въ высшей гармонiи духа» ( Д 1880: 11, 13). Опора Татьяны — «соприкосновенiе съ родиной, съ роднымъ на-родомъ, съ его святынею» ( Д 1880: 14). Во втором периоде, по мнению Достоевского, «повсюду у Пушкина слышится вѣра въ русскiй характеръ, вѣра въ его духовную мощь» ( Д 1880: 15). В этот период, начиная с «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина», Пушкин — национальный поэт, который дал «цѣлый рядъ положительно прекрасныхъ русскихъ типовъ, найдя ихъ въ народѣ русскомъ» ( Д 1880: 15).
В третий период (1830-е гг.) Пушкин предстает «всемирным» и «всечеловечным» поэтом. Он вместил «въ себѣ идею всечеловѣческаго единенiя, братской любви, трезваго взгляда прощающаго враждебное, различающаго и извиняющаго несходное, снимающаго противорѣчiя» (Д1880: 3), в полной мере выразил в своем творчестве христианский идеал, дал пророчество и указание русскому человеку: «Стать настоящимъ русскимъ, стать вполнѣ русскимъ можетъ-быть и значитъ только (въ концѣ концовъ, это подчеркните) стать братомъ всѣхъ людей, всечеловѣкомъ если хотите» (Д1880: 18). Достоевский призвал «изрѣчь окончательное слово великой, общей гармонiи, братскаго окончательнаго согласiя всѣхъ племенъ по Христову евангельскому закону» (Д1880: 19).
Эти идеи Достоевского вызвали бурную полемику в критике. Исторический и биографический контекст «Пушкинской речи» обстоятельно изучен в работах И. Л. Волгина [Волгин: 289–450], В. А. Викторовича [Викторович, 2020, 2021], [Викторович, Захарова: 423–454], Е. П. Литинской [Литин-ская], П. Е. Фокина и А. В. Петровой [Фокин, Петрова] и др. Публика в зале и газеты в первые дни обсуждения были единодушны в восторженных оценках ее содержания. В начале июня репортеры сообщали о невероятном успехе писателя, что его речь — это «мастерское, полное силы, остроумiя и задушевной теплоты чтенiе»4, газеты публиковали краткое изложение его основных идей, точно описывали восторженную реакцию слушателей. Описывая речь как победу Достоевского 8 июня, фельетонист и редактор «Стрекозы» Ипполит Василевский сравнивал Достоевского с «пророком», который «глаголомъ прожигалъ сердца», его речь «жгла, ослѣпляла, поражала»5. Он писал: «Высь, на которой очутился Достоевскiй, говоря о любви, о правдѣ, о красотѣ, о не умирающихъ идеалахъ всечеловѣчества, захватывала духъ и кружила головы. Сердце слушателя то замирало и леденѣло, то судорожно выбрасывало въ артерiи временно застоявшуюся кровь. У самого Достоевскаго горѣли щеки лихорадоч-нымъ румянцемъ, дрожалъ насильно форсированный, по природѣ слабый, голосъ и тряслись отъ волненiя руки. Съ каждой фр азою ораторъ побѣждалъ все болѣе и болѣе»6.
В «Молве» он писал, что «второе засѣданіе “общества любителей россійской словесности” превратилось въ единое и сплошное торжество Ѳ. М. Достоевскаго»7. В репортажах журналистов оно представало «лихорадкою, горячкою, упое-ніемъ, взрывомъ»8.
Через несколько дней восторг сменился оголтелой критикой. Так, например, М. А. Протопопов в «Русском богатстве» заявлял: «Въ томъ сумбурѣ, который г. Достоевскiй выдаетъ за “новое слово”, удивительно трудно орiентироваться»9. Достоевского упрекали в «безтактности» (Оболенский — в «Мысли», Благосветлов — в «Деле»)10.
Либеральная критика отвергла христианские идеи в речи Достоевского и их православное значение, исказила смысл ключевых концептов.
Развернутую полемику с христианскими идеями речи Достоевского дал А. Д. Градовский. В призыве Достоевского «изречь окончательное слово великой, общей гармоніи, брат-скаго окончательнаго согласія всѣхъ племенъ по Христову евангельскому закону» Градовский усмотрел предсказание «окончательного согласія», которого нет в апокалипсисе, отрицание пришествия Антихриста11. Вместо братской любви, по мнению Градовского, русское общество выпускает из своей среды «такихъ “апостоловъ”, которые давятъ всю Европу именно озлобленіемъ своимъ, и даютъ странное понятіе “о всепримиряющей” русской душѣ», которые «подавляли національное движеніе въ Италіи и Германіи и косились даже на единовѣрн ыхъ грековъ», из-за чего Россию ненавидит
Европа12. Он отрицает факт того, что русский народ стал народностью, поэтому он не должен «мечтать о всечеловѣчес-кой роли»13.
Его выступление против Достоевского поддержали журналисты «Русского курьера», «Молвы», «Слова», «Отечественных Записок», «Древней и новой России», «Дела», «Вестника Европы» и других либеральных изданий.
Критик «Русского богатства» М. А. Протопопов был не согласен, что «спасенiе человѣчества — въ христiанствѣ; но не въ христiанствѣ вообще, а непремѣнно въ православiи»14.
В. В. Воронцов обращал внимание, что в русском народе «кромѣ православныхъ — миллiоны католиковъ, протестан-товъ, евреевъ, магометанъ, даже сотни тысячъ язычниковъ»15. Воронцов соглашался с тем, что «Дневник Писателя» Достоевского самолюбием и мистицизмом напоминает «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя. По мнению В. Воронцова, Достоевский предсказывающий погибель Европы, повторяет Гоголя: «…рядомъ съ возвышенной, или съ высокопарной проповѣдью идетъ вульгарная сплетня, христіанская “любовь” и “братство” съ крайнимъ озлобленіемъ; тонъ — высокомѣрный и прорицательскій»16.
Константин Кавелин упрекал Достоевского за утверждение, что «нашъ народъ проникся православною вѣрою и глубоко носитъ ее въ своемъ сердцѣ», «съ недовѣрiемъ» отнесся к мысли, «будто бы мы пропитаны христiанскимъ духомъ»17, пытался убедить своих читателей в том, что ежедневная, будничная, практическая жизнь русского народа едва ли согласуется с учением Христа.
Важное значение в понимании смысла «Пушкинской речи» имеют концеп ты. Один из них — слово « всечеловек ».
Изучение концептов и концептосферы русской словесности, в том числе тезауруса Достоевского, является одной из актуальных задач в современной филологии [Лихачев], в части трактовки некоторых концептов см. также работы А. В. Пиги-на (ад, рай, видения, раскаявшийся бес) [Пигин, 1991, 1994, 1998].
Непонимание концепта « всечеловек » стало камнем преткновения критиков Достоевского.
А. Н. Пыпин утверждал, что быть «всечеловеком» не особенно лестно: «лучше быть оригинальнымъ русскимъ человѣ-комъ, чѣмъ этимъ безличнымъ “всечеловѣкомъ”», за этим скрывается «все та же гордыня подъ личиною смиренiя!»18.
Пародисты и юмористы состязались в остроумии. Так, Д. Д. Минаев сочинил пародию на «пушкинскую речь» Достоевского и роман Пушкина «Евгений Онегин» под названием «Она, или идеал русской женщины. (По рецепту беллетриста всечеловека)» [Тихомиров]. В тексте содержатся выпады в адрес Достоевского, его трактовки образа Татьяны как идеала русской женщины. Автор вкладывает в уста героини слова:
«Но мужу я принадлежу,
Какъ вещь, какъ черная рабыня, И “все-жена”, “все-человѣкъ” Ему вѣрна я буду вѣкъ»19.
Повторяя упреки либеральных критиков, автор представляет героиню как «содержанку», «жену-наложницу»20.
Как и Тургенев, назвавший пушкинскую Татьяну «все-женщиной»21, Минаев продолжил риторическое снижение и дискредитацию антропологического неологизма Достоевского.
Вслед за ними не поняли «всечеловека» К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев и другие критики, посчитав его либералом, космополитом, общечеловеком [Захаров, 2013: 154].
Богословский и философский смысл концепта раскрыт в трудах преп. Иустина, опубликованных в 1920–1930-х гг. [Иустин, 2008, 2017], в статьях исследователей [Буданова], [Захаров, 2013, 2018, 2021], [Цветкова], [Шалина], [Литинская].
У Достоевского всечеловек — совершенный христианин, его слова «стать всечеловеком» означают быть христианином .
Современники и потомки Достоевского до недавнего времени не воспринимали христианский смысл ключевых концептов и идей «Пушкинской речи». Он разгадан и сохранился в богословской и философско-религиозной критике. Пришло время понять и принять Достоевского.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРE / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Список литературы Христианский смысл пушкинской речи Достоевского
- Буданова Н. Ф. От «общечеловека» к «русскому скитальцу» и «всечеловеку» (Лексические заметки) // Достоевский. Материалы и исследования. СПб.: Наука, 1996. Т. 13: К 175-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. С. 213–215.
- Викторович В. А. «Пушкинская речь» Достоевского в свидетельствах современников // Неизвестный Достоевский. 2020. № 4. С. 48–69 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1607498336.pdf (12.12.2021). DOI: 10.15393/j10.art.2020.5101
- Викторович В. А. Эффект «Пушкинской речи» в русской журналистике // Неизвестный Достоевский. 2021. Т. 8. № 2. С. 122–156 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1626095001.pdf (12.12.2021). DOI: 10.15393/j10.art.2021.5362
- Викторович В. А., Захарова О. В. Ф. М. Достоевский в русской критике. 1845–1881. Коломна: ИД «Лига», 2021. 536 c.
- Волгин И. Л. Последний год Достоевского: исторические записки. 4-е изд., испр. и доп. М.: АСТ, 2017. 780 с.
- Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М.: Индрик, 2013. 456 с. (a)
- Захаров В. Н. Художественная антропология Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2013. Вып. 11. С. 150–164 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431455945.pdf (22.12.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2013.377 (b)
- Захаров В. Н. Кто гений, кто Шекспир? Из антропологических открытий Достоевского // Русская словесность. 2018. № 2. С. 3–8.
- Захаров В. Н. Актуальность Достоевского // Неизвестный Достоевский.2021. Т. 8. № 1. С. 5–20 [Электронный ресурс]. URL: https:// unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1617397021.pdf (31.09.2021). DOI: 10.15393/j10.art.2021.5321
- Иустин, прп. (Попович). Философия и религия Ф. М. Достоевского. Минск: Издатель Д. В. Харченко, 2008. 312 с.
- Иустин, прп. (Попович). Достоевский о Европе и славянстве // Евангелие Ф. М. Достоевского: в 3 т. Тобольск: Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», 2017. Т. 3: Свидетельства. Критика. Богословие / Г. В. Беловолов, А. П. Дмитриев, В. Н. Захаров и др. С. 392–700.
- Литинская Е. П. Риторика и поэтика «Пушкинской речи» Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 2. С. 141–175 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1630915640.pdf (31.09.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9583
- Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1993. Т. 52. Вып. 1. С. 3–9.
- Пигин А. В. Роман Ф. М. Достоевского «Бесы» и видения рая и ада // Современные проблемы метода, жанра и поэтики русской литературы. Петрозаводск, 1991. С. 132–139.
- Пигин А. В. К вопросу о древнерусских источниках романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» // Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск, 1994. С. 193–198.
- Пигин А. В. Древнерусская легенда о «кающемся» бесе (к проблеме апокатастасиса) // Проблемы исторической поэтики. 1998. Вып. 5. С. 122–139 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2479 (31.09.2021). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2479
- Тихомиров Б. Н. «Жил на свете таракан…». Стихи Ф. М. Достоевского и его персонажей; «Витязь горестной фигуры…»: Достоевский в стихах современников / [сост., подгот. текста, примеч., послесл. Б. Н. Тихомирова]. М.: Бослен, 2017. 239 с.
- Фокин П. Е., Петрова А. В. «Пушкинская речь» Ф. М. Достоевского как событие (по материалам рукописного фонда Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля) // Неизвестный Достоевский. 2020. № 2. С. 162–188 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1595258841.pdf (31.09.2021). DOI: 10.15393/j10.art.2020.4681
- Цветкова Н. В. «Всечеловеческое» и «всечеловек»: от С. П. Шевырева к Ф. М. Достоевскому // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2018. № 2. С. 127–150.
- Шалина М. А. Антропологическая проблематика творчества Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 1. С. 209–220 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1612794351.pdf (31.09.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9044