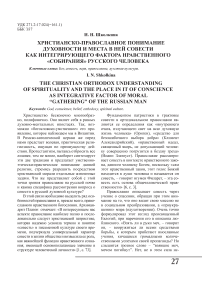Христианско-православное понимание духовности и места в ней совести как интегрирующего фактора нравственного «собирания» русского человека
Автор: Школкина Ирина Николаевна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (24), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается необходимость рассмотрения совести как феномена духовной культуры. Отмечается важность изучения психологического и религиозного аспектов совести.
Бог, совесть, вера, православие, духовная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14720784
IDR: 14720784
Текст статьи Христианско-православное понимание духовности и места в ней совести как интегрирующего фактора нравственного «собирания» русского человека
Христианство бесконечно многообразно, полифонично. Оно являет себя в разных духовно-ментальных ипостасях. Так, возможно «богословски-умственное» его проявление, которое наблюдаем мы в Византии. В Римско-католической церкви же перед нами предстает волевая, практическая религиозность, ищущая по преимуществу действия. Протестантизм, пытаясь отбросить все лишнее, тем не менее, наоборот синтезирует эти две традиции и предлагает умственно-этически-практическое понимание данной религии, стремясь разрешить посредством христианской морали отдельные жизненные задачи. Что же представляет собой с этой точки зрения православие на русской почве и какова специфика рассмотрения вопроса о совести в русской духовной культуре?
В этой связи необходимо выделить ряд особенностей православия и, прежде всего, православного нравственного богословия. Архимандрит Платон отмечает: «В интересующем нас аспекте православие наиболее полно и последовательно следует христианской патристике, которая надежно усвоила термин и понятие «совесть» в письменной культуре своего времени, подчеркнула универсальный характер совести в жизни общества и возвысила ее роль, как важнейшей функции нравственного сознания, имеющей основополагающее значение в структуре человеческой личности» [1, с. 73].
Фундаментом патристики в трактовке совести в ортодоксальном православии являются ее определения как «внутреннего очага, излучающего свет на всю духовную жизнь человека» (Ориген), «средство для безошибочного выбора добра» (Климент Александрийский), «нравственный идеал, священный якорь, не допускающий человеку совершенно погрузится в бездну греха» (Иоанн Златоуст). Православие рассматривает совесть в контексте нравственного закона, данного человеку Богом, поскольку «сам этот нравственный закон, этот голос Божий находится в душе человека и называется он совесть, – говорит игумен Филарет, – эта совесть есть основа общечеловеческой нравственности» [6, с. 3].
Православие описывает совесть через учение о спасении, обращая при этом внимание на то, что оно видит свою миссию не в социальном преобразовании, а «приукрашении» мира (одухотворении). Очень точно формулировал этот взгляд преосвященный Евлогий, при наречении его в епископа люблинского. «Взять ли в руки меч, – говорит он, – вооружиться ли всеми средствами борьбы, к которым прибегают инославные учения, кичащиеся громадными количественными успехами своей пропаганды? Но слышится грозное слово – “взявшие меч, мечом погибнут”. Нет, не в этом сила ис- тинного пастырства по духу Христову – не в стройности и крепости внешней организации деятелей, не в широте их проникновения во все общественные сферы, не в обилии материальных средств, даже не в препрети-тельных человеческой мудрости словесах, – нет, мы, говорит святой апостол, не плоти воинствуем, оружия бо воинства нашего не плотская, но сильна Богом: это броня правды, щит веры, шлем спасения, меч духовный иже есть глагол божий и молитва» [Цит. по: 7, т. 1, с. 659].
Это не значит, что православие отрицает все человеческие дела, но оно пуще всего боится смешать дело Божье с земным, в этом смысле оно – полная противоположность лютеранству, которое одинаково считает за дело церковное, а вернее – за человеческое, и служение в церкви, и проповедь, и церковную благотворительность. Православие, горячо сочувствуя православному миру, совсем не верит в возможность изменить его человеческими силами, и поэтому благотворительность носит личный характер помощи именно этому лицу, без посредников, исключительно из любви к нему, а не с расчетом, что этой помощью изменяются условия человеческой жизни.
Православие исходит из того, что человеческий мир не соизмерим с божественным, человек не в силах понимать смысл всего исторического процесса, а отсюда два вывода: иррационализм и покорность. Здесь опять-таки полная противоположность католицизму и лютеранству. Там – стремление не только познавать, но и подчинять божественное законам разума. Это присутствует и в лютеранстве, сущность которого – рационализм, и в католичестве. В православии наоборот – вера, понимаемая как отказ от разума, в постижении высшей истины, конечных причин, целей бытия.
Другой особенностью православия является то, что никакая иная христианская конфессия так живо не чувствует Христа, как эта, основа веры в Бога ее есть встреча с Богом: говоря языком богословия, есть «само-откровение Божие»: Бог сам говорит душе, сам «открывается» ей, «прикасается» к ней (это и есть мистический опыт, который для верующего человека составляет корень религии).
Отмеченные выше, разумеется, далеко не полно особенности православия, преимущественно относящиеся к сфере православного нравственного богословия, существенным образом сказались на многих сторонах отечественной духовной культуры. Она была глубоко и решающим образом «оплодотворена» религиозным началом, черпала свое творческое вдохновение в значительной степени из источников своего христианского опыта [5].
Через всю русскую классическую литературу XIX в. красной нитью проходит проповедь жалости к страждущему брату и провозглашение великого достоинства человека, кто бы он ни был и к какой среде, к какому бы слою ни принадлежал. Практически в любом ее крупном произведении центральное место занимают «вечные», общечеловеческие нравственно-этические проблемы, включая проблему совести, обостренное внимание к которой имеет широкий спектр причин и побудительных мотивов как социального, так и духовно-мировоззренческого характера. Именно на рубеже XIX–XX вв. проблема совести становится одной из доминантных в ее различных сферах: философской, литературно-художественой, этикоэстетической.
На гребне русской литературы конца XIX – начала XX в. вырастают, возвышаются фигуры титанов – Ф. М. Достоевского и Л. H. Толстого. По отношению к обоим гениальным писателям и мыслителям неприемлемы оценочные суждения типа «больше – меньше», «лучше – хуже» и т. п. Критерием выбора (предпочтения), коль скоро его приходится делать, здесь, как нам представляется, должна быть мера их религиозности и концентрированности на рассматриваемой (исследуемой) нравственной проблеме, в данном случае – проблеме совести.
С антропологизмом Достоевского, с напряженным чувством личности и ее трагедии связано его необыкновенное чувство Христа. В Толстом ветхозаветная религия закона восстала против новозаветной религии благодати, против тайны искупления. Л. Толстой, по-видимому, хотел превратить христианство в религию правила, закона, моральной заповеди, т. е. в религию ветхозаветную, не ведающую благодати, не знающую искупления и не жаждущую его. На добро и зло
Л. Толстой смотрит так, как смотрел Сократ, т. е. рационалистически, отождествляя добро с «разумным», а зло – с «неразумным». Тем самым, вольно или невольно умаляется личность, ее метафизическое (совестное) начало. Толстой верит, что Бог сам осуществляет добро в мире и что только не нужно противиться его воле. Все естественное – доброе. В этом Л. Толстой приближается к Ж.-Ж. Руссо и к учению XVIII в. о естественном состоянии. На сей счет Н. Бердяев тонко подмечал, что «у Толстого было могучее бо-гочувствование, но слабое богосознание, он стихийно пребывает в Отчей Ипостаси, но без Логоса» [2, с. 471]. Толстой скажет: все зло от того, что люди ходят во тьме, не знают божественного закона жизни. Но откуда эта тьма и незнание? Мы неизбежно приходим к иррациональности зла как предельной тайне – тайне свободы, которую с неповторимостью описал Ф. М. Достоевский, и через нее раскрывается интересующая нас проблема человеческой совести. Говоря о Достоевском, С. Н. Булгаков, отмечал: «Именно он показал со всепобеждающей силой внутреннего переживания значение религии на русской почве» [3, с. 10].
«Ибо русский человек с первых лет принятия христианской веры, – читаем мы в книге «Русская душа» А. А. Гагаева и П. А. Гагаева, – и по наши “окаянные дни” хранят в душе своей, не отдавая порой в этом отчета, чувство милосердного Бога, чувство сопричастности к его творениям» [4, с. 10]. «Федор Достоевский, – продолжают братья Гагаевы, – очарованный смирением и величием русского человека, в годы, когда Европа гибельно пела гимн “гордому”, “свободному” существу, воззвал к русской душе» [4, с.10]. Понять до конца Достоевского – значит понять что-то очень существенное в строе русской души, значит приблизиться к разгадке тайны России.
«По Достоевскому можно изучать наше духовное состояние, – пишет Н. А. Бердяев. И как глубоко отлично строение духа немецкого – немцы – мистики или критицисты, – и строение духа французского – французы – догматики и скептики. Русский душевный слой самый трудный для творчества культуры, для исторического пути народа» [2, т. 2, с. 39].
Художественно-философско-мировоззренческое осмысление любого этического феномена у Достоевского есть последовательное стремление к проникновению в духовные глубины русского человека, в тайны русской души. «Я всегда был истинно русский», – писал А. Майкову о себе Достоевский. Можно сказать, что творчество Достоевского есть русское слово о всечеловеческом. Он интересен нам также методологическими, жанровыми особенностями своего творчества, благодаря которым ему удалось синтезировать «событийный», «религиозный», «художественный», «философский» круги мировоззрения.
Что же нового приоткрылось Достоевскому о человеке, о его совести? Заслуживают внимания размышления на этот счет Н. А. Бердяева: «Учение о человеке отцов и учителей церкви, учение о пути человеческом, которому научает нас жизнь и творения святых, отвечает не на все запросы индивида в нынешнем его духовном возрасте, знает не все человеческие сомнения и соблазны. Человек не стал лучше, не стал ближе к Богу, но бесконечно усложнилась его душа, и обострилось его сознание. Старая христианская душа знала грех и попадала под власть дьяволу. Но она не знала того раздвоения личности, которое узнала душа, исследуемая Достоевским» [2, с. 41].
Судьба индивида, его страдальческие странствия определяются его свободой, которая у Достоевского есть не только христианское явление, но явление нового духа. Она принадлежит новому периоду в самом христианстве. Это есть переход христианства из этапа исключительно трансцендентного в период более имманентного его понимания. Человек выходит из-под внешней формы, внешнего закона и страдальческими путями добывает себе внутренний свет, через свободу и ее успокоение.
Достоевский был, вероятно, самым страстным защитником свободы совести, какого только знал христианский мир. «Свобода их веры тебе была дороже всего», – говорит Великий Инквизитор Христу. И он мог наверняка это сказать самому Достоевскому. «Ты возжелал свободной любви человека; вместо твердого древнего закона, свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея в руководстве твой образ лишь перед собой».
Достоевский отвергает «чудо, тайну, авторитет», как насилие над человеческой совестью, как лишение человека свободы его духа. Три искушения, которыми испытывал дьявол Христа в пустыне, направлены были именно против свободы человеческого духа и совести. Чудо должно быть от веры, а не вера – от чуда. Тогда только вера свободна. Никто не насилует человеческой совести в явлении Христа. Религия Голгофы есть религия свободы. Сын божий, пришедший в мир в «зраке раба» и распятый на кресте, растерзанный миром, обращен к свободе духа людей. Он не был силой и мощью в царстве этого мира. Он проповедовал царство не от мира сего. В этом, по Достоевскому, скрыта основная тайна христианства, тайна свободы.
Достоевский верил, что в восточном православии более сохранилась христианская свобода, чем в западном католичестве. Сам же он в своей религии свободы духа выходит за пределы исторического православия и католичества, он обращен к грядущему, в его откровениях о свободе есть что-то пророческое. Но как подмечает Н. А. Бердяев: «…он все-таки плоть от плоти, кровь от крови русского православия» [2, т. 2, с. 57].
Вероятно, правы те, кто считают, что в православии существует какая-то незавершенность, недостроенность и Достоевский пытается дополнить его. Он открыл, например, что антихристово начало не что иное, как отрицание свободы духа, как насилие над человеческой совестью. И он до глубины исследует это начало. Через «горнило сомнений» должны пройти Раскольников, Ставрогин, Кириллов, Версилов, Иван Карамазов. Из «кратера» их духа, из свободной совести должны раздаться слова Петра: «Ты, Христос, сын Бога Живаго». Достоевский почувствовал, что спасение их было в этом.
Путь исследования свободы Достоевский начинает с свободы «подпольного человека». Безграничной представляется эта свобода. Подпольный человек хочет перейти границы человеческой природы и испытывает эти границы. Если так свободен индивид, то не все ли ему дозволено: не разрешено ли какое угодно преступление во имя высших целей, вплоть до отцеубийства, не должен ли стре- миться человек к тому, чтобы самому стать богом? Не обязан ли он объявить своеволие?
Таким образом, свобода «бунтующая» привела к отрицанию идеи свободы, к невозможности постигнуть тайну мира и тайну Бога в свете свободы. Ибо поистине можно принять бога и принять мир, сохранить веру в смысл мироздания, если в основе бытия лежит тайна иррациональной свободы. Тогда только может быть постигнут источник зла в мире и оправдан Бог в существовании этого зла. Так пишет Достоевский свою изумительную теодицею, которая есть также и антроподиция. Предъявляется одно только вековечное возражение против Бога – существование зла в мире.
Н. А. Бердяев формулировал ответ Достоевского следующим образом: «Бог именно потому и есть, что есть зло и страдание в мире: существование зла есть доказательство бытия Божьего. Если бы мир был исключительно добрым и благим, то Бог был бы не нужен, то мир был бы уже Богом, бог есть потому, что есть зло. Это значит, что Бог есть потому, что есть свобода» [2, т. 2, с. 58]. Путь свободы переходит в своеволие, своеволие ведет к злу, зло – к преступлению. Проблема преступления занимает одно из центральных мест в творчестве Достоевского. Он не только антрополог, но и своеобразный криминалист.
Какую судьбу претерпевает человек, преступающий границы дозволенного, какие перерождения в его природе от этого происходят? Достоевский раскрывает онтологические последствия преступления. Он отмечает, что преступление с внутренней неизбежностью влечет за собой наказание. Наказание подстерегает человека в самой глубине его собственной природы. Достоевский, надо отметить, всю жизнь боролся против внешнего отношения к злу.
Ф. М. Достоевский подводит нас к тому, что если существует человек, человеческая личность в измерении глубины, то зло имеет внутренний источник. Он не может быть результатом случайных условий внешней среды, а соответствует высшему достоинству человека, его богосыновству – думать, что путь страдания искупает преступление и сжигает зло. Очень существенна для антропологии Достоевского эта мысль, что лишь через страдания поднимается человек ввысь. Страдания есть показатель глубины. Кара закона за преступление – всего лишь ознаменование внутреннего суда совести, муки совести страшнее для человека, чем внешнее наказание государственного закона. Человек, пораженный терзаниями совести, ждет наказания как облегчения своей душевной жизни. Закон государства несоизмерим с человеческой душой.
Достоевский призывал к страданию и верил в его искупительную силу. Человек – ответственное существо и страдание его не невинное. Беспредельная и пустая свобода, переходящая в своеволие, не может совершить акта избрания, она тянется в стороны противоположные. Поэтому раздваивается человек. Такими раздвоенными являются все герои Достоевского. В пределе раздвоения должно выделиться и персонифицироваться другое «Я» человека, его внутреннее зло, как черт. Этот предел раздвоения с гениальной силой обнаружен Достоевским в кошмаре Ивана Карамазова, в разговоре его с чертом. Здесь изобличается имманентное ничтожество зла.
Интересный подход к творчеству Достоевского мы видим у Шестова. Он бросает вызов «добру» и «совести», так как считает, что они бессильны, и не спасают, а губят одинокое, потерявшее надежду, умирающее человеческое существо. «Все ужасы жизни не так страшны, как выдуманные совестью и разумом идеи», – заявляет Шестов. «Совесть, по его мнению, принуждает Раскольникова стать на стезю преступления. Ее санкция, ее одобрение, ее сочувствие уже не с добром, а со злом, сама совесть взяла на себя дело зла». Шестов требует переоценки ценностей в таком направлении, которое поставит в центре мира человеческую индивидуальность, ее судьбу, ее трагические переживания. По разумению Шестова, «истинная трагедия Раскольникова не в том, что он решился преступить закон, а в том, что он сознавал себя неспособным на такой шаг. Раскольников не убийца, никакого преступления за ним не было, история со старухой процентщицей и Лизаветой – выдумка, поклеп, напраслина». «Эти-то преступники без преступления, эти-то угрызения совести без вины и составляют содержание многочисленных романов До- стоевского. В этом он сам, в этом – действительность, в этом – настоящая жизнь. Все остальное – “Учение” [11, с. 108–109].
Своей глубокой психологической критикой некоторых положений Достоевского Шестов выступает против всякого рода утверждения обыденности. Но Шестов должен был бы признать, что всякая трагедия в известном смысле есть «моральная» трагедия. Нравственная проблема и есть проблема, прежде всего, индивидуальности, это все тот же трагический вопрос об индивидуальной судьбе и индивидуальном предназначении. В нравственных муках человек ищет самого себя, свое трансцендентное «Я», а не пути к упорядочению жизни и взаимных обыденных отношений людей, как это утверждают рациональные моралисты. И поэтому решена, может быть, нравственная проблема только индивидуально, и за решение это человек не ответственен ни перед кем, судья тут может быть только сверхчеловеческий и надчеловеческий.
Добро есть интимное отношение человеческого существа к живущему в нем сверхчеловеческому началу. Добро абсолютно. И эта абсолютность не препятствует, а, скорее, обязывает отрицать одинаковые для всех моральные нормы (типа кантовского императива, которому противился Шестов). И нужно особенно подчеркнуть, что добро не есть закон разума, а воля живого индивидуального существа. В нравственных переживаниях всегда творится беззаконие, переступаются пределы обыденности, такая уж это иррациональная область. Это не значит, что все дозволено. Человек должен индивидуально творить добро, выполняя свое единственное предназначение под страхом потери своей индивидуальности, гибели своего «Я» (не эмпирического, конечно, разрушения совести).
Ф. М. Достоевский сделал великое антропологическое открытие, и в этом нужно, прежде всего видеть его художественное, философское и религиозное значение. Что это за открытие? Все художники изображали человека, и много было среди них психологов. Достаточно вспомнить гениального Шекспира, раскрывшего многообразный и богатый мир страстей, игру человеческих сил, выпущенных на свободу в эпоху Воз- рождения. Но достижения Достоевского не могут быть сравнимы ни с кем и ни с чем. И постановка темы о человеке, и способы разрешения ее у него совершенно исключительные и единственные. Он интересовался вечной сущностью человеческой природы, ее скрытой глубиной, до которой еще никто не добрался. И не статика этой глубины интересовала его, а ее динамика, ее как бы в самой вечности совершающееся движение. Это движение исключительно внутреннее, не подчиненное внешней эволюции истории. Достоевский раскрывает не феноменальную, а онтологическую динамику. Именно благодаря этому ему удалось столь глубоко проникнуть в религию, в человека, в совесть.
Осмысление и трактовка совести с христианско-православной точки зрения в конце XIX в. происходило не только в художественно-эстетической, но и в философско-этической сфере. И если в первом случае это было наиболее содержательно и глубоко осуществлено Достоевским, то заслуга проникновения в недра религиознонравственной трактовки совести в русской философии принадлежит В. С. Соловьеву.
Нравственный смысл жизни первоначально и окончательно, по Соловьеву, определяется добром, доступным нам внутренне, через совесть и разум, поскольку эти внутренние формы добра освобождены нравственным подвигом от рабства страстей и от ограниченности личного и коллективного себялюбия. На соловьевскую трактовку совести опять же накладывает серьезный отпечаток православие.
Владимир Соловьев, понимая Бога как абсолютно сущее, а мир как абсолютно становящееся и видя во всеединстве (Бога и мира, Бога и человека) божественный промысел, писал, что человек «добровольно покоряется действию Божию как верховной власти, затем… сознательно принимает это действие Божие как истинный авторитет, и, наконец, …самостоятельно участвует в действии Божием или входит в живой совет с Богом» [9, т. 4, с. 302].
Совесть как совет с Богом, совет с другими «собирает» человека для нравственного самоопределения. А реальной ареной для такого самоопределения, «самособирания», самосовершенствования, где индивид испы- тывает себя в добре и зле, является человеческая жизнь. Естественная форма бытия, состоящая из чувствований, есть удовольствие или неудовольствие, счастье и несчастие. Нравственная природа человека велит ему искать счастья только в добре, определять свою жизнь руководящей идеей блага. Между тем в жизни людей на место добра и помимо его являются другие источники счастья, в этом и состоит реальная сила нравственного искушения; человек может находить удовольствие и во зле или оставаться равнодушным к добру.
Победа добра в индивидуальном сознании значит такое состояние, когда, свободное от оков чувственности, оно имеет перед собой только дилемму добра и зла в их чистом виде, причем добро оказывает свое неотразимое действие на душу через посредство совести («Слово Мое будет судить вас в последний день»).
Не канонизированный святой Н. Ф. Федоров считает, что человечество страдает потому, что живет для себя, или для других (и в том, и в другом случае зло торжествует в человеческой душе). Чтобы отвергнуть это отвратное состояние, необходимо, утверждает он, «жить не для себя и не для других, а со всеми и для всех» (в совете со всеми) [Цит. по: 10, т. 2, с. 125].
«Горячим молитвенником за весь мир» явил себя людям духовный последователь Сергия Радонежского – Серафим Саровский. Серафим был глубоко убежден, что мир среди людей (всеединение) тогда лишь может явить себя, когда каждый из нас, а сначала немногие «стяжают… мирный дух» в себе самих: «Отчего мы осуждаем братий наших? От того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя, и перестанешь осуждать других. Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай. «Радость моя!» Стяжи себе мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся» [8, с. 80].
Ибо в каждом: больном, оступившемся, преступившем, растерявшемся в безбрежном просторе мирской жизни (все эти душевные состояния были ярко описаны в образах Достоевского)… – Серафим Саровский видел, чувствовал чутким сердцем, сердцем праведника образ, подобие Божие и поддержи- вал всей мощью своего провидческого дара божественное в душе человеческой.
Так думали, об этом мечтали русские православные праведники, об этом размыш- ляли Достоевский и Соловьев. Они верили, что, только стремясь к Богочеловечеству, спасется человеческое существо, сохранится общество.
Список литературы Христианско-православное понимание духовности и места в ней совести как интегрирующего фактора нравственного «собирания» русского человека
- Архимандрит Платон. Православное нравственное богословие/Архимандрит Платон. -Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994
- Бердяев Н. А. Философия творчества. Культура, религия и искусство: в 2 т./Н. А. Бердяев. -М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994
- Булгаков С. Н. Философия хозяйства/С. Н. Булгаков. -М.: Наука, 1990
- Гагаев А. А. Русская душа. Очерки русского мировоззрения/А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. -Пенза, 1996
- Гагаев А. А. О педагогически значимых концептах в сознании воспитанника современной школы/А. А. Гагаев, П. А. Гагаев//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2008. -№ 7. -С. 168-173
- Игумен Филарет. Конспект по нравственному богословию/Игумен Филарет. -Уфа: Уфим. епарх. управление, 1991
- Мир философии: в 2 т. -М.: Полит. лит., 1991
- Скрипник А. П. Моральное зло в истории этики и культуры/А. П. Скрипник. -М.: Политиздат, 1992
- Соловьев В. С. Собрание сочинений: в 2 т./В. С. Соловьев. -2-е изд. -М.: Мысль, 1990
- Флоренский П. Сочинения: в 4 т./П. Флоренский. -М.: Мысль, 1994
- Шестов Л. Достоевский и Ницше. Философия трагедии/Л. Шестов. -СПб., 1903