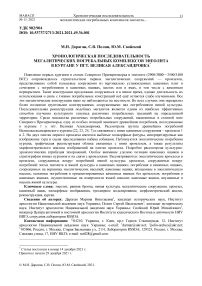Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита в кургане у пгт. Великая Александровка
Автор: Дараган М.Н., Полин С.В., Свойский Ю.М.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Появление первых курганов в степях Северного Причерноморья в энеолите (3900/3800-3500/3400 ВСE) сопровождалось строительством первых мегалитических сооружений - кромлехов, представлявших собой кольцевые сооружения из вертикально установленных каменных плит в сочетании с погребениями в каменных ящиках, цистах или в ямах, в том числе с каменным перекрытием. Такие конструкции продолжали сооружаться и в ямное время, однако длительность их использования и связь с типами погребальных конструкций всё ещё остаются слабо изученными. Все эти мегалитические конструкции ныне не наблюдаются на местности. Во всех случаях они перекрыты более поздними грунтовыми конструкциями, сооруженными над погребениями ямной культуры. Последовательная реконструкция подобных мегалитов является одним из наиболее эффективных способов изучения культурного генезиса различных погребальных традиций на определенной территории. Среди множества различных погребальных сооружений, выявленных в степной зоне Северного Причерноморья, одну из особых позиций занимают древнейшие погребения, исследованные в кургане 1 у пгт. Великая Александровка. Рассмотрена группа древнейших погребений Великоалександровского кургана (22, 23, 24, 7) и связанные с ними каменные сооружения - кромлехи 1 и 2. На двух плитах первого кромлеха имеются выбитые зооморфные фигуры, интерпретируемые как изображение тура и сцена преследования кабана собаками. Публикуются энеолитические погребения кургана, графическая реконструкция облика связанных с ними кромлехов, а также результаты морфометрического анализа изображений на плитах кромлеха. Подробно рассмотрена культурно- хронологическая атрибуция захоронений. Особое внимание уделено позиции каменных ящиков в стратиграфии ямных курганов и их связи с кромлехами. Рассматриваются: энеолитические кромлехи и кромлехи, сооруженные вокруг погребений ямной культуры; кромлехи, сооруженные вокруг погребений эпохи энеолита и ямной культуры в каменных ящиках; погребения в каменных ящиках, сооруженных на вершинах энеолитических насыпей; каменные ящики, впущенные в энеолитическую насыпь; основные погребения в орнаментированных каменных ящиках без кромлехов; погребения в каменных ящиках, осуществленные на поверхности ямной насыпи; каменные ящики, впущенные в насыпь ямной культуры.
Энеолит, ранняя бронза, ямная культура, мегалитические сооружения, кромлех, каменный ящик, зооморфные изображения, трехмерное моделирование, морфометрический анализ, реконструкция, курган
Короткий адрес: https://sciup.org/14123563
IDR: 14123563 | УДК: 902/904
Текст научной статьи Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита в кургане у пгт. Великая Александровка
Появление первых курганов в степной зоне Северного Причерноморья в эпоху энеолита (3900/3800—3500/3400 BCE) сопровождалось и строительством первых мегалитических сооружений — кромлехов, состоящих из рванного необработанного или условно обработанного камня или из обработанных каменных плит, которым по возможности придавалась более-менее правильная геометрическая форма. Самые ранние кромлехи простые — скорее, это даже просто небольшие насыпи, обложенные по основанию камнями. Более сложные кромлехи появляются на этапе среднего энеолита и представляют собой выставленные по кругу вкопанные и плотно подогнанные друг к другу вертикальные
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита… обработанные плиты, иногда скрепленные сверху горизонтально уложенными камнями. Высота таких кромлехов от 0,5 до 1,5 м, и даже до 2,5 м, как, например, кромлех, исследованный в кургане 5 у с. Тимофеевка (Шапошникова 1973: 169—170; 1985: 329). Одновременно с кромлехами в энеолите появляются и погребения в каменных ящиках, цистах или в ямах с каменным перекрытием. Такие же конструкции продолжали сооружаться и в ямное время (Пиоро 1999; Ковалева и др. 2003: 26; Rassamakin 2004a; 2004b; Мозолевский, Полин 2005: 196—203; Тесленко 2007: 79—83; Рассамакин, Евдокимов 2011 и др.), но длительность их существования на этапе ямной культуры и взаимосвязь типов погребений с кромлехами к настоящему времени остается слабо изученной.
Все эти мегалитические конструкции абсолютно во всех случаях перекрыты последующими насыпями и досыпками, сооруженными над погребениями ямной культуры, и ныне не наблюдаются на местности. Варианты соотношения погребальных конструкций эпохи энеолита (погребения в простых неглубоких ямах, погребения в каменных ящиках, погребения с кромлехами, а также с кромлехами и сопутствующими им столбовыми святилищами) и ямной культуры (погребения в простых ямах, погребения с кромлехами, погребения в каменных ящиках) различны. Их последовательная реконструкция является одним из наиболее эффективных способов изучения культурного генезиса различных погребальных традиций на определенной территории. Такие реконструкции могли бы стать основой для создания свода эталонных сооружений в рамках каждой культурной традиции (Субботин, Петренко 1986: 26—27; Андросов, Мельник 1991: 35; Дараган 2015).
Среди множества различных погребальных сооружений, исследованных в степях Северного Причерноморья, одну из особых позиций занимают древнейшие погребения в кургане 1 у пгт. Великая Александровка, исследованного в 1981 г. Речь идет о древнейших в кургане энеолитических погребениях, заключенных в кромлехи. Здесь представлены три стратиграфически последовательных погребения, отражающие разные погребальные традиции эпохи энеолита. На двух плитах одного из кромлехов зафиксированы зооморфные изображения.
Несмотря на уникальность великоалександровского комплекса, в литературе он освещен весьма скупо и известен только по схематичной прорисовке, отражающей установленную при раскопках последовательность погребальных сооружений (Шилов 1988: 5—8, рис. 1—2). Целью нашей работы является подробная публикация наиболее ранних погребений этого замечательного кургана, показать их во всей полноте с помощью графических реконструкций облика связанных с ними древнейших сооружений, а также рассмотреть изображений на плитах из кромлеха.
Курган у пгт. Великая Александровка(Великоалександровский район, Херсонская область, Украина) и его погребения
Курган находился на юго-восточной окраине поселка, на территории районной больницы. Необходимость его раскопок возникла в связи с намечавшимся строительством нового лечебного корпуса, чему курган препятствовал. Раскопки проводились в апреле — мае 1981 г. Херсонской археологической экспедицией Института археологии АН УССР (начальник экспедиции — А.И. Кубышев) под руководством Ю.А. Шилова и С.В. Полина (Кубышев и др. 1981: 10—39).
Курган построен на левом берегу р. Ингулец, в самом центре высокого берегового мыса в большой излучине этой реки (рис. 1). Особенностью именно этого микрорегиона является концентрация больших курганов эпохи бронзы, в том числе и высотой 9—12 м (Черных,
МАИАСП № 13. 2021
Дараган 2014: карта 32). В 12 км к северо-востоку от этого кургана были исследованы знаменитые Старосельские курганы (Шилов 1972; 1977; 2000; Кубышев и др. 1981: 40—58), далее к северу по течению Ингульца раскопаны курганы у с. Зеленый Гай (Ковалева и др. 2003) и г. Кривой Рог (Мельник, Стеблина 2012), в 3 км к югу — курганы у с. Малая Александровка (Евдокимов и др. 1989; Рассамакин, Евдокимов 2001) и с. Баратовка (Петренко, Елагина 1968), восточнее, ближе к Днепру, — курганы у с. Золотая Балка (Кубышев и др. 1978; 1979), западнее — у с. Висунск (Шапошникова и др. 1977). Это в основном стратифицированные курганы высотой от 3 до 10 м, что делает возможным создание стратиграфических и культурных колонок по отдельным курганам с их последующей синхронизацией между собой.
Высота Великоалександровского кургана к моменту раскопок составляла 4,5 м от древнего горизонта, диаметр — около 50 м. Курган никогда не распахивался. Его верхние слои на глубину до 2,0 м были прорезаны многочисленными захоронениями времени заселения края в конце XVIII в. (около 60)1. Курган имел плоскую вершину диаметром около 10 м. Северный склон был наиболее крутым, южный — наиболее пологий. Курган раскопан на снос с оставлением семи бровок, ориентированных в направлении ВСВ—ЗЮЗ. Направление и отклонение бровок от широтной оси в 10° было обусловлено расположением кургана относительно близлежащих корпусов больницы и наличием свободного пространства для складирования грунта. Разрезы насыпи графически зафиксированы на 13 профилях2.
Всего в Великоалександровском кургане выявлено 24 древних погребения: 4 энеолитических (7, 22, 23, 24), 10 ямной культуры (3, 4, 6, 12, 14, 16, 17, 19—21), 9 катакомбной культуры (2, 5, 8, 9—11, 13, 15, 18), 1 — черногоровское (1). Кроме того, обнаружено 4 культовых ямы и одна незавершенная могила (Шилов 1988; Кубышев, Черняков, Полин 1985). Из 24 погребений 16 попали в профили кургана, где зафиксированы либо разрезы погребений, либо выкиды из них (рис. 2—3). Положение остальных погребений определено по культурно-хронологическим признакам.
В кургане на основе 13 разрезов насыпи Ю.А. Шилов выделили 11 стратиграфических слоев, соответствующих последовательным этапам возведения насыпи. Начало сооружения кургана относится к энеолитической эпохе, с которой связаны 2 наиболее ранних слоя. Основные объемы кургана создавались в последующее время. Так, 6 слоев связаны с сооружением ямных погребений, 3 — с периодом погребений рубежа ранней/средней бронзы, с позднейшими погребениями ямной и погребениями раннего периода катакомбной культуры (Кубышев и др. 1981: 34—37). Позднейшим является погребение 1 черногоровской культуры, впущенное в центр кургана. Погребение 1 было окружено кромлехом диаметром 26 м из мелких известняковых камней, уложенных полосой шириной до 2,5 м по основанию кургана (Кубышев, Полин, Черняков 1985: 144).
Подкурганный материк — очень твердый желтый лессовый суглинок, переходивший с глубиной в не менее твердую супесь. В центре кургана материк залегал на глубине 5,1 м, в западной поле уровень его повышался до 4,9 м, а в восточной понижался до 5,3 м. Уровень древнего горизонта в центре под репером находился на глубине 4,5 м. Толщина черноземной
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита… погребенной почвы достигала 0,6 м. Отметим, что линия древнего горизонта и слой погребенной почвы полностью сохранились лишь под энеолитическими слоями насыпи. Под остальными досыпками кургана дерновый слой срыт, как и в околокурганном пространстве, грунт которого, по-видимому, использовался при сооружении насыпей.
Последовательность сооружения первичных погребений курганаЭтап 1
Этап 1 в сооружении кургана связан с погребением 24 и погребением 22, кромлехом-1 вокруг этих погребений и низкой насыпью над ними .
Погребение 24 обнаружено в центральной траншее между профилями Е и Ж, в 2,5 м к югу от центра кургана. В профиле «Ж» напротив погребения 24 зафиксирован тонкий слой материкового выкида из него, лежавший на древнем горизонте. Яма вырыта с уровня древнего горизонта на глубину 0,72 м, дно углублено в материк на 0,2 м (рис. 4). Погребение совершено в геометрическом центре кромлеха-1, в овальной яме, ориентированной по линии ЮЗ—СВ. Яма слегка сужалась ко дну, — с 2,0 × 1,6 м по верхнему краю, до 1,6 × 1,4 м на дне. На уровне древнего горизонта могильную яму окружали мелкие камни, сохранившиеся к моменту раскопок вдоль СВ и СЗ ее краев (рис. 5: 1—2 ). По-видимому, камни располагались по всему ее периметру. На хранение был взят один из этих камней, по всей видимости, железистый кварцит (джеспилит) (рис. 5: 7 ). К СЗ от ямы найдена половина гранитной мотыги с полированной поверхностью, расколотой по длине. Длина изделия 11 см, ширина около 8 см, толщина 4 см, диаметр отверстия 2,7 см (рис. 5: 3 ). Определение и описание дано по отчету. В настоящее время эта находка в коллекции отсутствует.
Яма была заполнена плотным черноземом с примесью материковой крошки. На дне лежал частично разрушенный скелет молодого мужчины3, лежавший скорченно на левом боку, головой на СВ. Левая рука, согнутая в локте, была направлена кистью к коленям, ноги согнуты под прямым углом к позвоночному столбу, под острым в коленях, пятки подтянуты к тазу. Кости правой стороны скелета (руки, таза, части грудной клетки), а также нижняя челюсть, сдвинутые в беспорядке к СЗ стенке ямы, находились в придонной части заполнения. На лобной части черепа зафиксировано пятно охры.
Погребение 22 находилось в 2,5 м к Ю от погребения 24, в 0,7 м от кромлеха-1 (рис. 5: 4— 6 ). Южный угол ямы попал в профиль «З», судя по которому погребение 22 также было совершено с уровня древнего горизонта и углублено в толщу погребенной почвы на 0,2 м. Яма неправильной четырехугольной формы размерами 1,35 × 0,75—0,6 м была ориентирована по оси З—В. Имела ломаную линию южной стенки. В заполнении ямы обнаружены два скопления обломков костей взрослого человека, причем, возле каждого находился камешек (известняк). Меньшее скопление из двух обломков бедренных костей находилось у восточной стенки. В скоплении возле западной стенки найден обломок черепа, обрубки длинных костей, ребра и позвонки. В районе таза и левого предплечья находились камешки (кусочки известняка). По мнению Ю.А. Шилова, эти скопления являлись остатками каннибальской тризны, а возможно, и двух.
Необходимо отметить, что отдельный полевой чертеж погребения 22 в экспедиционной документации отсутствует. В иллюстрациях к отчету о раскопках имеется отбеленный совмещенный чертеж погребения 22 и более позднего погребения 21 ямного времени,
МАИАСП № 13. 2021
«севшего» на погребение 22 сверху (рис. 5: 4 ). На нем совмещены костные остатки обоих погребений. Реальная ситуация в погребении 22 отражена только на фотографиях погребения 22 (рис. 5: 5, 6 ).
Кромлех-1 диаметром 9,5—10 м по внешнему краю, был сооружен вокруг первичного основного погребения 24 и связанного с ним погребения 22 (рис. 4, 7, 8, 9: 1 ). Кромлех-1 сооружен из хорошо отесанных вертикально установленных плит известняка размерами от 0,55 × 0,30 × 0,10 м до 0,80 × 0,60 × 0,15 м. Плиты были установлены в кольцевой ровик с отвесными стенками, шириной около 0,50 м, глубиной от 0,20 до 0,60 м от древнего горизонта в толще погребенной почвы. Кромлех-1 возвышался над уровнем ДГ на 0,25— 0,55 м. Его плиты были углублены в древний горизонт местами до 0,60 м. Слегка наклоненные наружу плиты кромлеха-1 у основания были укреплены забутовкой из мелких камней.
Кромлех-1 был частично разрушен на отдельных участках протяженностью от 1 до 3 м: отсутствовали плиты с СВ, В и ЮЗ. Поэтому сохранилось всего 39 плит (рис. 4). На северном участке находились две плиты максимальных размеров, наиболее возвышавшихся среди всех остальных (рис. 7: 2 ). Эти плиты, в отличие от остальных, были плохо обработаны, а также несколько выступали за окружность кромлеха. Соседние плиты вывернуты, но, судя по ровику, также располагались выше, нежели на других участках. Плиты на противоположном южном участке кромлеха-1 были наиболее углублены. Здесь зафиксирован небольшой разрыв кромлеха-1 и прослежен проход в ровике шириной до 0,1 м. Против него с внутренней стороны кромлеха-1 находилось погребение 22 — непосредственно напротив двух вышеуказанных плит северного участка кромлеха-1.
Плиты с изображениями. В ЗСЗ часть кромлеха включены две плиты—стелы с зооморфными изображениями, выполненными в технике плоского контррельефа — расположенная на северо-западной стороне плита № 1 (двенадцатая плита с юга) и расположенная на западной стороне кромлеха плита № 2 (седьмая плита с юга) 4 (рис. 4, 7: 2 , 10). Эти плиты по своей морфологии, размерам, способу и качеству обработки ничем не выделяются из массива плит кромлеха. Изображения наблюдаются на сторонах плит, обращенных наружу от центра кромлеха. Эти плиты, в отличие от остальных, были сохранены и в настоящее время находятся в коллекции Национального историкоэтнографического заповедника «Переяслав»5. Для исследования плит была применена методика трехмерного бесконтактного цифрового документирования, основанная на технологии цифровой фотосъемки6 с последующей фотограмметрической обработкой изображений. Плиты документировались открытым способом, с формированием незамкнутой трехмерной полигональной модели. Наибольшее внимание при этом уделялось фотосъемке фронтальной стороны с изображениями и обработанных верхней и боковых сторон, грубо обработанные поверхности фотографировалась таким способом, чтобы получить их общую геометрию. В случае, если исходно сформированная модель оказывалась больше комфортного для дальнейшего исследования порога в 70 млн. полигонов, на ее
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита… основе формировалась рабочая модель переменной детальности. При этом для фронтальной стороны сохранялась детальность моделирования исходной модели (размер полигона порядка 0,1 мм), а для тыльной и боковых сторон она понижалась до 0,2 мм7. Исследование плит и изображений на них выполнялось, таким образом, по моделям с детальностью порядка 8 700 полигонов на кв. см при допустимом снижении детальности на поверхностях без изображений. На основе рабочей модели формировалась замкнутая модель (для расчета объема) и карта высот (для анализа морфологии поверхности). Для анализа поверхности применялись два метода математической визуализации рельефа — эмуляция затенений на модели и карте высот и присвоение узлам карты высот псевдоцветов в зависимости от геометрии поверхности. Применение этой методики позволило уточнить размеры плит, оценить их вес и выявить ряд технологических особенностей их изготовления, исследовать технику выполнения изображений на плитах8.
Плиты с зооморфными изображениями изготовлены из известняка со слабо выраженной слоистостью. Следует особо отметить, что обе заготовки были взяты из одного стратиграфического горизонта известнякового пласта, так как на них в пределах незначительного интервала в 18—22 см наблюдается переход от слоистого известняка с характерной десквамацией поверхности к массивному известняку с характерными мелкими кавернами. Заготовки, в обоих случаях, имели форму, близкую к прямоугольной. Первичная обработка камня выполнялась, по-видимому, теслом. Целью этой обработки являлось придание камню формы щита с закругленным верхом и заостренным низом. Верхнее закругление имело форму близкое к полуовальной, нижней части придавалась форма, близкая к треугольнику с закругленным нижним углом. Эта нижняя часть составляла от 40 до 60% общей высоты плиты и предназначалась для погружения в грунт. Такая форма, вероятно, несколько облегчала точную установку и выравнивание плит в ограде кромлеха. Вследствие особенностей петрографии камня «слоистая» и «массивная» стороны обрабатывались по разному. «Слоистая» сторона практически не несет следов обработки и, по-видимому, не подтесывалась. «Массивная» сторона грубо обработана теслом. Интересно отметить, что для «изобразительного поля» на заготовках была выбрана разная сторона — на плите № 1 «слоистая», на плите № 2 «массивная». Соответственно и изобразительное поле дорабатывалось различно. У плиты № 1 эта обработка была минимальной, в то время как у плиты № 2 поверхность сначала была выровнена теслом (при этом было стесано около 6 см камня), а затем пришлифована. Причина такого решения не ясна. Сходство поперечного профиля плит и изучение архивных фотоснимков остальных плит кромлеха позволяет заключить, что большая часть плит кромлеха устанавливалась «ровной» («слоистой») стороной наружу. Можно предположить, что и на плите № 2 изображение первоначально выбивалось на «слоистой» стороне, тем более что там имеются следы инструмента. Однако по каким-то причинам (ошибка резчика, крошение поверхностного слоя известняка) плита была развернута и подвергнута трудоемкой обработке для подготовки изобразительного поля на «массивной» стороне. Нижняя часть лицевой стороны и тыльная сторона как «изобразительное поле не рассматривались и практически не обрабатывались. Боковые поверхности обрабатывались, вероятно, уже после нанесения изображения. Обработка их
МАИАСП № 13. 2021
была более тщательной, чем для верхних и нижних поверхностей, так как боковые стороны должны были быть достаточно точно подогнаны к соседним плитам кромлеха. Им придавалась, насколько это было возможно, плоская форма, причем это достигалось посредством не только обтесывания, но и шлифовки. Окончательная обработка боковых сторон выполнялась непосредственно при установке плит в кромлех с подгонкой по месту.
Плита № 1 (А-683) (рис. 11—16, 17: 2 ). Размеры плиты 83 × 54 × 23 см, масса 130—140 кг, изобразительное поле 45 × 41 см расположено на «слоистой» стороне плиты. Одно зооморфное изображение размером 34 × 20 см, обращенное вправо. Корпус животного выполнен в технике сплошной выбивки глубиной 3—6 мм, глубина выбивки достаточно равномерна в области головы, но неравномерна в области туловища и ног. Фигура животного имеет более четкие контуры в верхней и правой части, менее четкие в нижней и левой, это относится и к ногам и, несомненно, связано с направлением нанесения ударов. Следов шлифовки в пределах контура не заметно. Параллельно задней части животного выбита дуга длиной около 12 см, шириной около 1 см и глубиной 1—3 мм, также заполненная охрой (менее интенсивно в сравнении с основной частью фигуры). Эта дуга может быть интерпретирована как поджатый хвост, однако ее верхний конец не соединяется с корпусом. Нижний конец, напротив, загибается вверх и примыкает к ноге с перепадом высоты около 1 мм. В передней части фигуры животного наблюдаются две загнутые вверх почти параллельные дуги длиной около 8 см, выполненные гравировкой. Расстояние между ними 3—6 мм, ширина дуг около 3 мм, глубина до 0,6 мм, поперечный профиль близкий к V-образному. Дуги покрыты охрой, наложенной широкой полосой, без тщательного соблюдения контура, характерного для большей части изображения животного. По мнению Ю.А. Шилова, рисунок является изображением быка (Шилов 1988: 5).
Плита № 2 (А-684) (рис. 17: 2 , 18—21). Размеры плиты 78 × 46 × 19 см, масса 80—90 кг, изобразительное поле 36 × 25 см расположено горизонтально на «массивной» стороне плиты. Группа из трех зооморфных изображений общим размером 33 × 14 см, также обращенных вправо. Крупное животное в правой части группы имеет размеры 20 × 13 см, корпус животного выполнен в технике сплошной выбивки глубиной 3—6 мм (до 10 мм в области головы), передняя конечность и морда, предположительно, дополнительно прошлифованы. Верхняя и передняя части морды дополнены небольшими ушами и клыками, выполненными неглубокой гравировкой. Загнутый вверх хорошо выраженный хвост изображен U-образной в профиле выбивкой шириной 7 мм и глубиной 1 мм. Обращает на себя внимание непропорционально длинная передняя части морды, на 30% более длинная, чем передние ноги. Это наиболее яркая особенность фигуры, полной аналогии которой найти не удается (за исключением единичного петроглифа из «Грота быка» местонахождения Каменная Могила — изображения животного с мордой, более длинной, чем передние ноги) (рис. 31: 2: B ). Два морфологически сходных между собой небольших изображения выбиты левее, их размеры 11 × 6 см и 10 × 6 см. Они имеют глубину до 3 мм и выполнены более схематично, линейной выбивкой, переходящей в площадную только в области передней части корпуса и головы. Задние ноги переданы линейными выбивками постоянной ширины, имеющими форму загнутого вперед крюка. У этих животных есть хвосты, причем у верхнего он опущен, а у нижнего завернут вверх — но не на спину, как у большой фигуры. Края изображений оформлены менее тщательно, чем на плите № 1, характерная для плиты № 1 технологическая разница в исполнении «правых—верхних» и «левых—нижних» частей фигур на плите № 2 отсутствует. Следов охры не наблюдается. Ю.А. Шилов писал, что кабан «был закрашен, очевидно, сажей» (Шилов 1988: 6). Группа из трех фигур, несомненно, является единой
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита… композицией и может быть интерпретированы как сцена преследования животного (кабана с гипертрофированно длинной мордой?) двумя собаками или волками.
Оба погребения 24 и 22 перекрывала низкая насыпь-I из комковатого чернозема, заполнявшая внутреннее пространство кромлеха-1. Насыпь-I имела плоскую поверхность, которая не выступала над плитами. Ее высота в центре достигала 55—70 см. По периметру кромлеха-1 прослежено два ряда горизонтально уложенных плит: верхний оконтуривал края насыпи-I внутри кромлеха, а нижний являлся вымосткой вокруг его основания с внешней стороны (рис. 9: 2 ). Эти ряды сильно разрушены при дальнейших досыпках кургана (в основном, при сооружении погребения 7). Полуразрушенность ряда горизонтально уложенных плит над южным и юго-восточными участками внутри кромлеха-1, по мнению Ю.А. Шилова, также могла быть связана с различными манипуляциями, связанными с впущенным в насыпь-I погребения 23. Поэтому не исключено, что горизонтально уложенные верхние плиты могли первоначально находиться непосредственно на вертикальных камнях кромлеха.
Этап 2
Этап 2 связан с совершением погребения 23 .
Погребение 23 было впущено с поверхности насыпи-I в ее центральную часть, что отражено в профиле «Ж» (рис. 3: 15 ). Погребение 23, совершенное с поверхности насыпи-I, несомненно, было включено в систему кромлеха-1 (рис. 9: 2 ), однако не сопровождалось самостоятельной насыпью. Прямоугольная яма Погребения 23 с закругленными углами размерами 1,9 × 1,1—1,4 м ориентирована по линии СВ—ЮЗ. Ее северо-западная стенка частично перерезала верхнюю часть северо-восточной стенки погребения 24. Яма прорезала слой насыпи-I и частично углубилась в слое погребенной почвы. Глубина от уровня впуска 0,85 м. В заполнении ямы на уровне древнего горизонта прослежены остатки перекрытия из деревянных бревен диаметром до 0,12 м, одно из которых лежало вдоль длинной стенки, а остальные шесть — перпендикулярно к нему, через равные промежутки, упираясь в него концами. На них фиксировался камышовый тлен. На дне лежал скелет молодой женщины скорченно на правом боку головой на ЮЮЗ. Руки согнуты в локтях, кисти перед лицом. У коленных суставов находились сосуд (1), медное шило (2) и четыре кремневых орудия (3). Выше черепа отмечены два пятна мела, а у колен, под вещами — пятно охры (рис. 23: 1—2 ).
Описание находок
-
1. Столовая плоскодонная амфорка нежно оранжевого цвета из тонко отмученной глины с двумя налепными ушками по бокам с вертикальными отверстиями в них. Высота 6,7 см, диаметр тулова 8,5 см, диаметр венчика 4,3 см, диаметр дна 3, 5 см (рис. 24).
-
2. Медное четырехгранное шильце с выделенным заостренным черенком. Длина 2,7 см, ширина 0,3 см (рис. 23: 7, 8 ).
-
3. 4 кремневых орудия, которые возможно являются набором для обработки кожи. Сырьём послужил кремень меловой полупрозрачный, тёмно-серый со светлыми включениями, вероятно, крымского происхождения.
— Скребок боковой на полупервичном отщепе. Рабочий край сформирован крутой ретушью. Размеры 4,3 × 3,7 × 0,8 см (рис. 23: 3 ).
— Скребок боковой на вторичном отщепе. Рабочий край сформирован крутой ретушью. Размеры 5,1 × 3,7 × 0,9 см рис. 23: 4 ).
МАИАСП № 13. 2021
-
— Режущее орудие на пластинчатом отщепе. По продольным краям — ретушь утилизации. Размеры 5,4 × 3,1 × 0,7 см (рис. 23: 6 ).
-
— Режущее орудие на массивной отбивной пластине. По продольному краю — ретушь утилизации. Размеры 8,7 × 2,9 × 0,7 см рис. 23: 5 ).
Этап 3
Этап 3 связан с погребением 7. Оно находилось в центральной части траншеи ЕЖ непосредственно над погребением 24. Было совершено на вершине насыпи-I и перекрыто насыпью-II (рис. 2, 3: Ж: 24 ). Погребение совершено в прямоугольном каменном ящике, ориентированным по линии ЮЗ—СВ. С внешней стороны стенки ящика были укреплены наброской камней и земляной насыпью диаметром около 2 м, обложенной затем известняковыми плитами до уровня перекрытия ящика. Ящик состоял из 8 основных и более мелких вспомогательных грубо обработанных известняковых плит, установленных на плоской поверхности насыпи-I. Плиты имели небольшой наклон внутрь, возможно, под давлением внешней засыпки. Плиты, составлявшие стенки ящика, имели разные размеры, варьировавшие в пределах от 0,50 × 0,25 × 0,15 м до 1,0 × 0,70 × 0,12 м. Разницу по длине и высоте выравнивали вставки из камней или мелких плит9. Короткие торцевые СВ и ЮЗ стенки состояли из одной и двух плит. СЗ длинная продольная стенка состояла из одной наиболее длинной в конструкции ящика плиты, но все же недостаточной длины. Недостающую длину СЗ стенки дополняла маленькая плита, установленная в зазор между длинной продольной СЗ плитой и короткой торцевой ЮЗ стенкой. ЮВ продольная стенка состояла из двух коротких крупных плит, зазор между которыми в середине стенки заполнял камень малых размеров. ЮЗ половина ящика была перекрыта известняковой плитой размерам 1,15 × 0,5 × 0,15 м, а над СВ половиной были обнаружены следы деревянного перекрытия.
Площадь пространства внутри ящика составляла 1,2 × 0,7 м, высота 0,55 м. Крайне ограниченное внутреннее пространство ящика было изначально рассчитано на размещение покойника в скорченном положении10. Дно внутри ящика было подсыпано слоем рыхлого чернозема толщиной 0,15 м. Под засыпкой обнаружены отдельные угольки. На слое этой подсыпки почти по диагонали ящика лежал скелет пожилого мужчины на спине скорченно, головой на СВ, руки вытянуты вдоль корпуса. Ноги первоначально были сильно согнуты коленями вверх (с пятками у таза), со временем распались в противоположные стороны. Колени уперлись в противоположные стенки ящика. На дне у ног выявлены слабые следы охры. На локтевом изгибе левой руки лежал панцирь черепахи выпуклой стороной кверху. Его размеры 20 × 15 см (рис. 26: 1 ). Напротив, снаружи ящика, найдена створка речной раковины со следами охры и сажи внутри (рис. 26: 3 ).
Кромлех-2. Каменный ящик погребения 7 был окружен новым собственным кромлехом-2, который окружал и кромлех-1, что в итоге образовало две концентрические окружности. Стенки кромлеха-1 и кромлеха-2 разделяло расстояние в 1,5—1,7 м (рис. 2, 25, 27, 28).
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита…
Кромлех-2 был сооружен из известняковых плит размерами до 1,0 × 0,70 × 0,20 м. Около половины из них не имели признаков дополнительной обработки. Плиты кромлеха-2 вкопаны в древний горизонт на глубину до 0,5 м. Основания некоторых плит были закреплены забутовкой мелкими камнями. Кромлех-2 возвышался над уровнем древнего горизонта на 0,15—0,9 м. Плиты были немного наклонены внутрь (рис. 25, 27). Кромлех-2 ориентирован в направлении С—Ю с отклонением в 10° к широтной оси. Длина его составлял 13,5 м, ширина 13 м (рис. 25).
По мнению Ю.А. Шилова, кромлех-2 имел антропоморфные очертания. В нем были выделены голова с плечами и суживающиеся к спрямленному основанию боками (рис. 25). Головная часть кромлеха-2 наиболее низкая, а противоположная часть, — основание, — наиболее возвышена. Эти части кромлеха-2 выделены и другими деталями. Их центры образованы парами хорошо отесанных камней белого однородного известняка, в то время как прилегающие плиты обработаны хуже и изготовлены из желтого ноздреватого известняка.
В северной части кромлеха-2 у головы прослежено скопление древесного тлена, а в нижней левой восточной части обнаружено скопление угольков, обломков костей и керамики. В южной части в спрямленном основании кромлеха-2 выделялись 2 ограничивавших центр менгирообразных камня. В юго-восточной части кромлеха-2, примерно напротив щели в юго-восточной стенке ящика, отмечена плита с отбитым верхом (рис. 25), а также найдены обломки костей крупного парнокопытного.
Внутри кромлеха-2 была возведена насыпь-II, перекрывшая погребение 7 в каменном ящике, а также предыдущее погребение 23. Высота насыпи-II достигала 1,8 м над уровнем древнего горизонта, диаметр — около 13 м (рис. 22). Под насыпью-II внутри кромлеха-2 найдено четыре маленьких фрагмента чернолощеной керамики, три из которых содержали примесь мелкотолченых раковин, а один — примесь песка (рис. 26: 2 ).
В литературе имеется категорическое отрицание антропоморфности формы кромлеха-2 в Великоалександровском кургане. Признавая определенные отклонения кромлеха-2 от круглой формы, критик не находит той симметрии и выразительности, которая показана на чертеже в северной части кромлеха-2. В южной части кромлеха-2 он заметил явный наклон плит наружу. По мнению Ю.Я. Рассамакина, все эти отклонения вызваны природными факторами, деформацией кромлеха-2, вызванной давлением грунта. Почему-то он также пишет об отсутствии насыпи-II в разрезах кургана (Рассамакін 1992: 127).
За всей этой словесной эквилибристикой не стоит ничего, кроме категорического огульного неприятия всего исходящего от Ю.А. Шилова. Притом, что Ю.А. Шилову принадлежит масса фантастических идей, не все, от него исходящее, является фантазией. Юрий Алексеевич — полевик крепкий, надежный, многоопытный, видит землю и фиксирует увиденное — дай бог каждому. И в точности его первичной фиксации объектов сомневаться не приходится. Но когда дело доходит до реконструкций и интерпретаций, здесь ситуация меняется кардинально. Тут его мысли устремляются в горние выси и предела им нет. Но в данном случае один из авторов настоящей статьи ( С.П .), непосредственно участвовавший в раскопках, расчистке объектов и их фиксации, готов подтвердить, что кромлех-2 в Великоалександровском кургане был исследован и зафиксирован абсолютно надежно и достоверно. К сожалению, на фотографиях кромлеха, сделанных с уровня исследуемой поверхности или в лучшем случае под углом с крыши маленького бульдозера ДТ-75, с большим трудом угадываются изгибы линии кромлеха. Но графическая фиксация была проведена безупречно. С помощью простейших средств расположение каждой плиты в кромлехе было зафиксировано максимально точно. В центре кромлеха-2 был вбит кол, от
МАИАСП № 13. 2021
которого с помощью веревки и второго кола, так сказать, «полевого циркуля», в пределах кромлеха был прочерчен идеально правильный круг. От этого круга велись все замеры расположения плит кромлеха-2, которые и заносились на полевой чертеж с возможной максимальной погрешностью при переводе в масштаб не более 5 см. Так что «голову» кромлеха-2 можно было увидеть, пощупать, померить и зачертить, как и уплощенность основания, и некоторое спрямление боков. Утверждение об отсутствии в разрезах кургана насыпи-II не соответствует действительности. Достаточно взглянуть на чертежи, чтобы убедиться, что насыпь-II зафиксирована в ряде профилей (рис. 3: Г, Д, Е, Ж, З ). И утверждение, что деформация формы кромлеха-2 произошла под давлением грунта насыпи-II, также не выдерживает критики, как и отмеченный Ю.Я. Рассамакиным «явный наклон плит наружу» в южной части кромлеха-2. В описании кромлеха-2 специально был отмечен наклон плит кромлеха-2 внутрь, что отражено во всех разрезах кургана, куда он попал. И нет никакого наклона наружу ни на фотографиях, ни на чертеже (рис. 3: Г, Д, Е, Ж, З ). Т.е., плиты были изначально установлены под наклоном, соответственно уклону склонов маленького кургана-II, высота которого и масса грунта были совершенно недостаточными для выдавливания плит кромлеха в наклон наружу, а тем более для деформации его планировки, т.е. смещения линии кромлеха-211. Является ли данная форма кромлеха антропоморфной — об этом можно спорить сколько угодно. Но то, что именно такую форму в плане имел кромлех-2, является фактом достоверным, установленным не только визуально, но и обмерами, отраженными на чертеже.
Погребения 24, 23, 7 и проблемы культурной интерпретации
Погребение 24. По Ю.А. Шилову, погребение 24 нижнемихайловского этапа (Шилов 1988: 7). Так же рассматривает подобные погребения и И.Ф. Ковалева (Ковалева и др. 2003: 54—55). А Ю.Я. Рассамакин находит ему место в рамках погребальной традиции III-A среднего энеолита (Rassamakin 2004a: 50—54, 212; 2004b: 127).
Аналогичные по обряду погребения широко представлены в степной зоне Северного Причерноморья между Доном и Дунаем в целом, на Молочной, Правом и Левом берегу Днепра и в Побужье в частности (Rassamakin 2004b: 119—139). В Подонье аналогичные погребения В.Я. Кияшко включил в III группу, сравниваемую с Нальчикским могильником. Близкий этой группе тип погребений выделил В.А. Трифонов в Прикубанье и так же сравнил его с Нальчикским могильником (Трифонов 2014).
Погребение 22. Его атрибуция затруднительна. Ю.А. Шилов предполагал, что это остатки каннибальской тризны, по-видимому, связанной с погребением 24. Но, поскольку специального изучения антропологических остатков из этого объекта не было, то такой вывод можно рассматривать только в качестве предварительного.
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита…
Погребение 23. Ю.А. Шилов определил его как позднетрипольское (Шилов 1988: 8). Согласно исследованиям И.Ф. Ковалевой, это животиловский культурный тип (Ковалева 1978). У Ю.Я. Рассамакина это погребальная традиция III-C (животилово-волчанская) позднего энеолита (Rassamakin 2004a: 55—59, 2004b: 138—157). Амфорка из погребения 23 относится к горизонту Триполье СII/2 по Дергачеву (Дергачев 1980). Аналогичные сосуды известны в гординештской и усатовской группах, датируемых в рамках 3350—3000/3950 до н.э. (Збенович 1974: 92, рис. 35: 10 , 153, рис. 45: 7 ; Дергачев 1980: 177, 180, рис. 5, 2 , 7, 19). Аналогичные сосуды выявлены в ряде энеолитических погребений Северного Причерноморья, например, в кургане 14 у с. Любимовка (Лесков и др. 1968), в погребении 10 кургана 1 Новомосковского кургана (Ковалева 1991b: 73, 75, рис. 4: 1—3 ) и в погребении 21 в кургане 1 у с. Волчанск (Кубышев и др. 1979: рис. 14: 4 ).
Ю.Я. Рассамакин считает, что такие погребения появились в степной зоне в процессе миграции нового населения с исходными земледельческими традициями, которое в той или иной степени повлияло на формирование отдельных степных локальных энеолитических групп, но фактически видит в них возможный результат миграции на восток носителей Гординештской культурной группы Позднего Триполья (Рассамакин, Евдокимов 2006: 13— 14; 2010: 25—26). Напротив, В.А. Трифонов, развивая положения Ю.Я. Рассамакина об инновационном характере этой традиции, полагает, что по обряду, а отчасти и инвентарю, она ближе всего майкопской традиции и полагает, что ее «следует рассматривать в контексте майкопской культуры» (Трифонов 2014: 280).
Энеолитические кромлехи
Кромлехи сооружались вокруг энеолитических погребений разных погребальных традиций (Rassamakin 2004a; 2004b; Тесленко 2007: 4; Черных, Дараган 2014: 272—273). Выделяются кромлехи из вертикальных глыб или обработанных плит и такие же, но дополненные плитами, установленными непосредственно на них (или впритык к ним на насыпь) горизонтально. К этой последней разновидности относится и великоалександровский кромлех-1. В качестве ближайшей аналогии укажем на курган 5 у с. Зеленый Гай, в котором первичное погребение 12, аналогичное по обряду погребению 24 Великой Александровки, было окружено кромлехом диаметром 7 × 8,5 м, сложенным из семидесяти установленных вертикально вплотную друг к другу плит железистого известняка треугольных очертаний высотой 1—1,2 м, шириной 0,6—0,75 м и толщиной 0,15—0,2 м. Плиты были установлены в кольцевом ровике и закреплялись мелкими камнями. На верхних торцах плит лежали плашмя плиты меньших размеров, образуя плоское горизонтальное кольцо (Ковалева и др. 2003: 54).
Типологически близок и кромлех, сооруженный вокруг основного постмариупольского погребения 16 в кургане 6 группы 1 у с. Новоалександровка. Здесь погребение 16 было совершено на древнем горизонте в своеобразной наземной каменной гробнице (Ковалева 1991a: 34, рис. 3, 4; Rassamakin 2004b: 40) (рис. 30: 1—3 ).
К данной серии относится и кромлех вокруг погребения 15 кургана 1 у с. Боровковка диаметром 3,7 × 4 м, состоявший из 36 плит средней высотой 0,65—0,7 м (Ковалева, Шалобудов 1992: 106, 112—113, рис. 3: 5 ; Rassamakin 2004b: 38, 91).
Кромлех из вертикально вкопанных небольших плит, поверх которых были горизонтально уложены плиты в 2—3 слоя, окружал основное энеолитическое погребение 18 кургана 11 у г. Каменка-Днепровская (рис. 30: 6 ). Примечательно, что одна из восточных плит кромлеха своей правильной треугольной формой напоминает букраний, размерами 0,35 × 0,3 м (Рассамакин 2000: 142). Аналогичную конструкцию имел и кромлех с
МАИАСП № 13. 2021
горизонтальной каменной укладкой поверх невысокой вертикальной стенки в кургане 29 у хут. Шевченко (рис. 30: 5 ) (Черных, Дараган 2014: рис. 90—91) и кургане 2 у г. Никополь (рис. 30: 4 ) (Чурилова, Нор 1986: табл. XIX—XXI). Аналогичный по устройству с великоалександровским кромлех реконструирует Ю.Я. Рассамакин в кургане 1 у с. Малая Александровка, сооруженный на вершине первой энеолитической насыпи (Рассамакин, Евдокимов 2001: 72, рис. 4).
Кромлех диаметром 8 м из поставленных в ровик вертикальных плит окружал позднеэнеолитическое погребение 15 в Первом Старосельском кургане, впущенное в энеолитическую насыпь высотой 3,2 м, диаметром 28 м. Плиты возвышались над уровнем поверхности на 0,4 м (Шилов 1977: 51; Rassamakin 2004b: 122, 153).
Фигурный кромлех-2 в Велико-Александровке, по мнению Ю.А. Шилова, антропоморфных очертаний, среди исследованных в Северном Причерноморье на сегодняшний день аналогий не имеет.
Орнаментация каменных плит в энеолитических кромлехах
Для Северного Причерноморья великоалександровские плиты из кромлеха-1 являются наиболее ярким из весьма немногих существующих образцов анималистического искусства энеолитической эпохи. Стелы с изображениями встречаются и в комплексах кромлехов усатовской культуры, однако здесь они наблюдаются вне ограды кромлеха как такового. Две рядом стоящие плиты с нанесенными на них зооморфными и одна стела с антропоморфными изображениями были частью кромлеха кургана Усатово 3-1. Предполагается, что, как и великоалександровские плиты, они были обращены изображениями наружу (рис. 33). Плита с изображением собаки или кабана также обнаружена и в составе кромлеха из кургана Усатово 11-1 (Патокова 1979: 47, 63—64, рис. 19: 7 , 25).
Как уже указывалось выше относительно видовой принадлежности животных, то Ю.А. Шилов полагал, что речь идет об изображении быка на плите 1 и кабана с собаками на плите 2 (Шилов 1988: 5). Объективно такой интерпретации несколько противоречит излишне вытянутая морда и пропорции животного (длинные ноги, прямая спина, поджарое тело), а также совершенно необъяснимая фигура (дуга) в задней части животного. Дуги у передней части головы вполне могут рассматриваться как рога, однако расположены они слишком «низко» для быка, а их конфигурация ближе рогам козлов, нежели быков. Расположение дуг оставляет место для предположения, что это не рога, а бивни, и петроглиф, соответственно, изображает слона. Это может указывать на связь строителей кромлеха с Западной Анатолией, Левантом или Месопотамией — достоверно установленным палеонтологами для бронзового века ареалом обитания слона сирийского ( Elephas maximus asurus ). Особенность описанных дуг — вне зависимости от того рога это или бивни — совершенно иная техника исполнения, гравировка, наложенная на выбивку, которой выполнен корпус животного, причем гравировка достаточно небрежная. Единственной региональной аналогией изображению на плите № 1 мы, вслед за Ю.А. Шиловым (Шилов 1988: 5), можем назвать т.н. «Дождевого быка» из комплекса изображений «Грота быка» Каменной Могилы (рис. 31: 2, В , 32: 2 )12. В качестве аналогий обоим изображениям (великоалександровскому и из
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита…
Каменной могилы) Ю.А. Шилов обоснованно указывал на изображения быков, связанные с Майкопской культурой (Шилов 1988: 9, рис. 3) (рис. 32: 3 — 8 ). Добавим здесь, что «Дождевой бык» наиболее близок (хотя и не идентичен) по способу изображения «рогов»/«бивней» Великоалександровскому «зверю» (Radchenko, Nykonenko 2019: fig. 10), и, в целом, гораздо более похож на слона, чем бык плиты № 1. Из более удаленных аналогий следует упомянуть быков с вытянутыми мордами и дугообразными рогами петроглифов из казахстанских местонахождений Тамгалы, Терекри-Алие, Чокпар (Radchenko, Nykonenko 2019: fig. 12) (рис. 32: 9 ), однако их пропорции гораздо ближе к быку или туру, чем у изображения из Великой Александровки. Суммируя изложенное выше, следует заключить, что, пожалуй, видовая принадлежность животного, изображенного на плите № 1, в принципе не может быть однозначно установлена. Это может быть объяснено как неискусностью резчика, так и попыткой создать некий условный собирательный образ, содержащий элементы различных животных. Петроглифы не всегда изображали реальных зверей (или людей) — в качестве характерных примеров можно привести изображения эпохи энеолита и бронзового века из Минусинской котловины.
Что касается изображений на плите 2, то они представляются достаточно однозначно интерпретируемыми. Ю.А. Шилов полагал, что иконография изображенных на кромлехе собак имеет аналогии в росписи трипольской керамики этапа С—I. Достоверных изображений собак ни в майкопском, ни в синхронном ближневосточном искусстве нет. Изображения вепря, причем с таким же непропорционально вытянутым оформлением морды, известны в майкопской культуре (Шилов 1988: 9) и присутствуют среди изображений «Грота Быка» Каменной могилы (рис. 31: 2: В ).
Возможно, что в энеолите были распространены и геометрические орнаменты. Таковые зафиксированные на плитах кромлеха из Вербовки Черкасской обл. (культурная принадлежность погребения спорна, Формозов полагал, что речь идет о ямном погребении) (Формозов 1955: 72—74, рис. 2—4). На плитах кромлеха кургана 3 «Магарач» у с. Вилино (Тощев 2014: 204—205, рис. 1: 2—3 ). Орнаментированная плита, украшенная врезанным орнаментом в виде концентрических полуовалов, входила и в состав кромлеха кургана 2 группы Высокой могилы (Ляшко 1989: 78—79; Тощев 2014: рис. 1: 4 ). Геометрическим узором украшены и камни перекрытия погребения 6 кургана 7 группы 1 у с. Новониколаевка, по И.Ф. Ковалевой — новотиторовской культуры (Ковалева 1993, 67—76), по Ю.Я. Рассамакину — погребальной традиции III-A позднего энеолита (Rassamakin 2004b: 124—125, tab. 393).
Погребение № 7 в каменном ящике в системе Великоалександровского кургана следует за животиловско-волчанским погребением 23 и предшествует ямному погребению 1613. Ю.А. Шилов определил погребение 7 как кеми-обинское, что принял Ю.Я. Рассамакин (Rassamakin 2004b: 127).
О кеми-обинской культуре
Каменные ящики являются наиболее ярким признаком выделенной А.А. Щепинским кеми-обинской культуры (Щепинский 1966; 1985). Но принципы ее выделения в широких хронологических рамках от рубежа IV—III тыс. до н.э. до XVII в. до н.э. неоднократно дискутировались (Тощев 2004; Субботин 1995; Szmyt 2014; Иванова 2015). В настоящее
МАИАСП № 13. 2021
время пересмотрены вопросы о культурной атрибуции каменных ящиков «доямного» периода, присутствующие во всех погребальных традициях позднего энеолита (постмариупольской, нижнемихайловской и животиловской), а также погребений в каменных ящиках периода средней и поздней бронзы, которые рассматриваются, соответственно, в составе бабинской и бережновско-маевской срубной культур (Шапошникова, Фоменко, Балушкин 1977: 143; Rassamakin 2004a; 2004b; Тесленко 2002: 107—110; Черных, Дараган 2014: 276). По другим признакам обряда и инвентарю погребения в каменных ящиках не отличаются от синхронных им погребений тех же культур (Тесленко 2002: 110). Каменные ящики с геометрической росписью стен, соответствующие по А.А. Щепинскому развитой фазе кеми-обинской культуры (Щепинский 1985), по данным курганной стратиграфии синхронны периоду ямной КИО (Черных, Дараган 2014: 288—289). В северо-западном Причерноморье «в своей решающей массе это памятники позднего периода» ямной культуры (Иванова, Петренко, Ветчинникова 2005: 141). Отмечалось также, что «погребения в каменных ящиках не имеют совокупности признаков, которые А.А. Щепинский считал характерными для кеми-обинских погребений Крыма (расширенные книзу стенки ям, использование глины—глея в закладах, подсыпка гальки или ракушек на дне и др.)» (Ковпаненко, Фоменко 1986: 22—23).
Тем не менее, обозначение «кеми-обинский» по-прежнему употребляется для погребений в каменных ящиках, часто с геометрической росписью стен, выявленных в рамках массива погребений ямной культуры. При этом синхронное существование погребений ямной и «кеми-обинской» культур на одной территории по данным курганной стратиграфии, а также сходство других элементов погребального обряда со всей очевидностью свидетельствуют о невозможности отделения кеми-обинских погребений от памятников ямной культуры ввиду совпадающих признаков погребального обряда и инвентаря (Петренко, Тощев 1990: 83; Тесленко 2002: 110; Иванова, Петренко, Ветчинникова 2005: 141). Вопрос о происхождении в обряде как энеолитических, так и ямных племен традиции погребальных конструкций в виде каменных ящиков остается открытым (см. обзор мнений: Иванова, Петренко, Ветчинникова 2005: 143—145). Ареал же погребений в каменных ящиках соответствует регионам, в которых по берегам рек и балок имеются выходы камня на поверхность, т.е., определяется наличием стройматериала.
Поза погребенного в погребении 7 — скорчен на спине, с ногами, согнутыми коленями вверх, типична для погребений ямной культуры. В большинстве подобных погребений ямной культуры колени у погребенных падают вправо/влево, редко сохраняют вертикальное положение, но достаточно часто распадаются ромбом (Черных, Дараган 2014: 278). Такая поза в тенденции считается в большей степени характерной для раннеямных погребений (Тесленко 1999: 85). Также встречается и в энеолитических погребениях, выделенных Ю.Я. Рассамакиным в погребальную традицию II-A (например, Любимовка курнан 19 погребение 7 и Каиры-II курган 1 погребение 1 — Rassamakin 2004b: tab. 299).
Из погребений в каменных ящиках, совершенных в ямное время, подобная поза зафиксирована в погребении 3 кургана 1 у с. Висунск (Шапошникова 1977: 75, чертеж № 6). Как и в Великоалександровском ящике, размер висунского ящика также изначально был рассчитан на позу с согнутыми вверх коленями.
Панцирь черепахи , кроме великоалександровского погребения 7, также присутствовал в основном разрушенном энеолитическом погребении 37, окруженном кромлехом, в кургане 1 у с. Червона Колонка (Мозолевский и др. 1986: 103) и был положен перед лицом погребенного в основном энеолитическом погребении 7 Высокой Могилы у с. Балки (Бідзіля, Яковенко 1971: 15).
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита…
Тип ящика. Устройство каменного ящика в великоалександровском погребении 7 отличается от большой серии каменных ящиков ямной культуры, внутренние стенки которых были расписаны геометрическим орнаментом, более тщательно обработаны и подогнаны друг к другу вплотную для создания жесткой прямоугольной конструкции. Великоалександровский ящик выполнен весьма небрежно. Нетипичной является земляная курганоподобная в миниатюре подсыпка вокруг ящика и последующая каменная наброска на нее. По этому признаку наиболее близкой аналогией, пожалуй, являются именно ящики из эпонимного кургана Кеми-Оба, в котором вокруг ящика № 1 был сооружен кромлех (Щепинский, Тощев 2001: 74—75). Примером может выступать ящик из погребения 2 кургана 16 у с. Войновка (Рассамакин, Евдокимов 2011: 93, рис. 14), а также ящик погребения 1 кургана 2 у с. Старая Розановка (Шапошникова и др. 1973: 178—181). Каменные ящики, столь же небрежного исполнения, как великоалександровский, известны в энеолите, где связаны с различными погребальными традициями (Rassamakin 2004b: 122, tab. 382; Черных, Дараган 2014: 276). Типична для энеолита и установка гробниц на древнем горизонте или на поверхности курганов, в ряде случаев окруженных кромлехами (Тесленко 2007: 4).
Устройство Велико-Александровского кромлеха-2 выполнено в той же манере и из того же строительного материала, что и кромлех-1. Отметим, что по некоторым признакам оформление пространства внутри великоалександровского кромлеха-2 перекликается с оформлением святилища в кургане 5 у с. Тимофеевка, где кромлех, сооруженный из больших блоков высотой свыше 2,5 м, окружал площадку, сооруженную из смеси чернозема и суглинка с примесью углей, охры и мелких костей. Также, как в Велико-Александровке, на уровне древнего горизонта, возле одного из погребений, совершенных внутри кромлеха, обнаружены фрагменты чернолощеной керамики (Шапошникова 1986: 329).
Великоалександровский ящик погребения 7 по одним и тем же признакам можно отнести как к позднеэнеолитическим в рамках одной из погребальных традиций, так и раннеямным. Для временной атрибуции этого погребения важен тот факт, что погребение 7 было устроено на вершине уже существовавшего энеолитического комплекса. Оно не было впускным, т.е. не нарушало целостности предшествующего погребального комплекса. На подобную археологическую ситуацию обращали внимание одесские коллеги, выделив такие погребения в « гробницы на подиумах», отметив, «что выставление погребения наружу, на дневную поверхность, по типологии обряда диаметрально противоположно ингумации в яме, независимо от совпадения или различия прочих обрядовых деталей » (Иванова, Петренко, Ветчинникова 2005: 133). В этой связи целесообразно рассмотреть сходные археологические ситуации, в первую очередь те из них, в которых каменный ящик сооружен на вершине энеолитической насыпи, а также рассмотреть с какими типами погребений в ямное время связаны кромлехи, как соотносятся погребения в каменных ящиках с кромлехами и как устроены каменные ящики в курганах ямной культуры
Кромлехи ямной культуры
Традиция сооружения кромлехов известна на раннем этапе ямной культуры, но настолько редко, что Ю.Я. Рассамакин не исключает возможность их датировки эпохой энеолита, как, например, основное погребение 6 в кургане 2 в г. Александрия, которое, тем не менее, определено им как ямное (Рассамакин, Евдокимов 2011: 90). Кромлехи сооружены вокруг основных погребений ямной культуры в традиционных ямах, таких как погребение 9 в кургане 1 у с. Зеленый Гай (Ковалева и др. 2003: 26, рис. 4: 1 ), Недайвода курган 1,
МАИАСП № 13. 2021
Рыбасово-2 курган 7 погребение 13, Зеленгосп курган 1 погребение 2 (Мельник, Стеблина 2013: 60—62, рис. 37—39), погребение 11 в кургане 1 у с. Васильевка (Кубышев и др. 1977: 32, 34), погребение 10 в кургане 2 у с. Новый Мир (Андросов 1986: 68, 74—75), в курганах 28 и 29 у с. Марьевка (Пиоро 1999: 41). Перекликается с великоалександровской ситуация в кургане 5 ур. Зеленый Гай, где в энеолитическую насыпь с кромлехом впущено ямное погребение 7, вокруг которого был сооружен свой овальный кромлех диаметрами 7 × 7,5 м, целиком вписавшийся в пределы энеолитического кромлеха (Ковалева и др. 2003: 54). Предполагается, что кромлех-2 в кургане 1 у с. Соколовка связан с ямным погребением 6, впущенным в насыпь с кромлехом-1, сооруженным над и вокруг энеолитического нижнемихайловского погребения 6-А (Шарафутдинова 1980: 91).
Кромлех связан с первичным погребением 10 ямной культуры в обычной яме, расположенным точно в его центре, в кургане 1 у с. Весняное. Выкид из погребения 10 лежал на древнем грунте вокруг него. Погребение 10 было перекрыто насыпью-1 первичного кургана, ограниченного по окружности кольцом кромлеха, установленного на уровне древнего горизонта (Гребенников, Симоненко 1992). Представляется неудачной попытка Д.Л. Тесленко связать кромлех с впускным в ямный курган погребением 5 в каменном ящике. В кургане 1 имеется 3 впускных погребения — 2, 3 и 5 в каменных ящиках, из которых 2 впущены в пределы кромлеха и 1 вне его. Эти погребения совершены в однотипных каменных ящиках близких размеров по единому погребальному обряду. Все это может указывать на принадлежность погребенных в каменных ящиках к одной группе населения, возможно, связанных родством. Их предельная близость во времени более чем вероятна. Попытка их распределения в длительном периоде времени не представляется обоснованной. Из них погребение 5 выбрано в качестве претендента на связь с кромлехом лишь из-за его расположения, близкого к центру кромлеха, но все же не в нем (Тесленко, Гребенников 2002: 84—85, рис. 1—5). Все имеющиеся факты по стратиграфии кургана 1 у с. Весняное указывают на то, что все погребения 2, 3 и 5 в каменных ящиках были совершены после того, как кромлех скрылся под оплывом насыпи, вне связи с ним.
Кромлехи вокруг погребений эпохи энеолита и ямной культуры в каменных ящиках
Известны энеолитические каменные ящики, окруженные кромлехами, например, Золотая Балка кромлех 1 (Rassamakin 2004a: 43, Abb. 33.1), погребение 30 в кургане 1 у с. Старогорожено (Шапошникова, Фоменко, Балушкин 1977: 99, 118), погребение 7 кургана 14 у с. Любимовка (Rassamakin 2004b: 122). Энеолитом датируют и основное погребение 7 в каменном ящике в кургане 1 у с. Валовое (Rassamakin 2004b: tab. 173; Тесленко 2005: 130; Мельник, Стеблина 2012: 6—7).
Интересна ситуация в кургане 8 у с. Константиновка (Шапошникова и др. 1973: 60—62). Здесь в пределах кромлеха открыты 2 погребения, отнесенные Ю.Я. Рассамакиным к энеолитической погребальной традиции I (Rassamakin 2004b: 4), и комплекс из 19 энеолитических погребений погребальной традиции III A по Ю.Я. Рассамакину же (Rassamakin 2004b: 130). В центре этого погребального комплекса находился каменный ящик погребения 8, установленный на древнем горизонте. Стенки ящика были углублены в погребенный чернозем на 0,25—0,3 м. Вокруг ящика на уровне древнего горизонта зафиксирована каменная известняковая крошка. Отметим, что вокруг ящика у восточной лежал череп и разрозненные кости человека, а рядом несколько фрагментов чернолощеного
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита… сосуда14. Авторы раскопок предполагали, что речь идет об остатках погребения, разрушенного при сооружении каменного ящика погребения 8. Ю.Я. Рассамакин не включил его в число энеолитических, по-видимому, предполагая его более поздний возраст.
Неопределенная ситуация в кургане 8 группы Львово-2, где каменный ящик погребения 3 размерами 1,95 × 1 × 0,8 м установлен на древнем горизонте. Ящик собран из 8 хорошо обработанных известняковых плит размерами 0,3—0,85 × 0,75 × 0,15—0,2 м. Стенки ящика снаружи подпирали наклонные крупные плиты. На З плите на внутренней поверхности что-то процарапано, в чем автор раскопок В.Ю. Мурзин увидел «линейное тамгообразное изображение» (рис. 34: 3а ), с чем согласиться трудно. На дне ящика лежал взрослый погребенный скорчено на спине головой на СВ. Согнутые в коленях ноги упали влево (рис. 34: 2, 2а-б ). У черепа стоял лепной плоскодонный сосуд с воронкообразным высоким венчиком и яйцевидным туловом. На поверхности слабые следы заглаживания зубчатым штампом. В тесте примесь толченой ракушки. Высота 8 см, диаметр венчика 6 см, шейки 5,4 см, плеча 7,4 см, дна 3,7 см (рис. 34: 3 ).
Погребение 3 находилось в центральной части кургана 8, окруженной кромлехом из известняковых плит, довольно плотно примыкавших друг к другу. Плиты в основном необработанные, лишь у нескольких с восточной стороны обработаны края. Высота плит 1— 1,2 м. Плиты вкопаны в древний горизонт на 30—40 см. Диаметр кромлеха около 10 м. Зафиксированы участки без плит: в ЮЗ части шириной 1 м, в ЮВ части два разрыва в 0,7 и 1 м. В пределах кромлеха сооружена насыпь-1 высотой 1,1 м (Тереножкин и др. 1973: 40—43) (рис. 34: 3, 3а, 5 ).
Связь погребения 3 в каменном ящике с кромлехом в кургана 8 группы Львово-2 не очевидна. Погребение 3 очень сильно смещено к ЮЗ от центра кромлеха. Кроме того, в пределах кромлеха рядом с погребением 3 имеется погребение 4 ямной культуры в традиционной яме, также сильно смещенное от центра кромлеха. Погребение 4 перекрыто плитами, уложенными на древнем горизонте, и также может претендовать на первичность в кургане 8. В целом курган 8 высотой 3,8 м раскопан очень некачественно, с единственной бровкой, прошедшей лишь через северный край кромлеха, в которую не попали погребение 3 и погребение 4 (рис. 34, 1 ). Разрезы кургана нельзя считать документальными. Строго горизонтальная линия древнего горизонта проведена по всей длине разрезов от края до края, чего в курганах эпохи энеолита—бронзы не бывает никогда. В северный разрез включено погребение 3, расположенное в 4 м от него, т.е., разрез не отражает реальной конструкции насыпи кургана и является реконструктивным. Стратиграфия кургана изложена лишь на основании косвенных соображений. Погребение 3 в каменном ящике определено как кеми-обинское и априорно сочтено наиболее ранним в кургане. Но ямное погребение 4 имеет не меньше прав на первичность в кургане 8. Поэтому, возможны целых 3 абсолютно равноправных варианта: 1) кромлех связан с погребением 3 в каменном ящике; 2) кромлех связан с ямным погребением 4, а погребение 3 впущено в первичный курган высотой 1,1 м позднее; 3) погребение 4 и погребение 3 одновременны и перекрыты общей насыпью, которую охватил кромлех, связанный с ними обоими.
К этой серии погребений следует отнести основное погребение 10 в каменном ящике кургана 41 у с. Софиевка, установленного на древнем горизонте, вокруг которого был возведен кромлех диаметром 29 м (Шилов 1973: 23—24, 27—28). И основное погребение 1 в кургане 22 у с. Глухое, где в ящике размерами 1,8 × 0,9 м, составленном из 6 плит и перекрытого двумя плитами, погребены взрослый и ребенок 2—3 лет, кости которых
МАИАСП № 13. 2021
перемешаны и их положение осталось невыясненным. Погребение 1 окружено овальным кромлехом размерами 15 × 13 м из небольших камней. Над ним возведена насыпь высотой 2,3 м (Елинова и др. 1984: 45, 47).
Погребения в каменных ящиках, сооруженных на вершине энеолитических насыпей
В степном Причерноморье имеется серия захоронений в каменных ящиках, сооруженных, как и великоалександровский в погребении 7, непосредственно на вершинах уже существовавших энеолитических курганов с применением тех же приемов по укреплению внешних стенок ящика грунтовой и каменной наброской.
Наиболее близкая к великоалександровской ситуация прослежена в кургане 1 у с. Баратовка, где каменный ящик погребения 8 был установлен на вершине энеолитической насыпи. Ему предшествовали энеолитические погребения 5, 6, 16 и 17, из которых погребение 6 совершено в каменном ящике в погребальной традиции III-C по Ю.Я. Рассамакину. Высота насыпи, перекрывшей энеолитические погребения и на которой установлен каменный ящик погребения 8, достигала 1,5 м при диаметре 21,5 м (Петренко, Елагина 1968: 35—38; Rassamakin 2004b: 152—153, 176—177, tab. 517, 515).
Баратовский ящик в погребения 8 сложен из восьми известняковых плит. Длинные стенки составлены из трех плит, торцевые из одной. Его размеры 1,95 × 1,05 м. Длина торцевых плит 0,96 и 1,0 м, боковых плит 0,5—0,66 м, высота плит 0,85—1,0 м, толщина 0,1—0,2 м. Плиты на треть высоты и более вкопаны в грунт энеолитической насыпи. Основания плит ящика снаружи закреплены забутовкой мелким камнем. Глубина внутренней емкости ящика 0,5 м. Пол состоял из двух плит желтого ракушечника. Внутренняя поверхность стенок до уровня пола и верхний край тщательно отесаны. Обработка внешней поверхности более небрежная. Основания плит, вкопанные в землю, не обработаны. Торцевые плиты с внутренней стороны вдоль вертикальных краев имели пазы шириной 10—16 см и глубиной до 2 см для плотного прилегания к плитам боковых стенок. Стыки плит промазаны изнутри и снаружи раствором глины, смешанной с землей. Ящик перекрывала необработанная плита размерами 2 × 1,1 × 0,15—0,18 м. К этой плите со всех сторон примыкали небольшие камни. Со всех сторон ящик окружала наброска из средних и мелких плит и камней, нижний уровень которых соответствовал уровню дна ящика. В вертикальном разрезе все сооружение представляло усеченный конус, плоской вершиной которого служит крышка ящика. Общая площадь основания конструкции составляла 4,0 × 2,9 м. Каменный ящик был перекрыт насыпью, увеличившей курган до высоты 3,25 м и до диаметра 31 м (Rassamakin 2004b: 176, tab. 515).
Скелет лежал скорченно на спине головой на север. Руки вытянуты вдоль туловища. Ноги, первоначально поднятые коленями вверх, упали влево. Скелет окрашен красной охрой. Под ним зафиксирована подсыпка из золы, мела и охры. Возле левой руки лежал формованный комок красной охры усеченно-конической формы с заглаженной поверхностью. Его высота 7,5 см, диаметры оснований 10 см и 7,3 см (рис. 38).
Две плиты в боковых стенках ящика возле головы скелета с внутренней стороны украшали изображения. Западная плита размерами 1,0 × 0,6 × 0,13 м украшена резным изображением косого креста. Вырезанные на плите полосы неглубокие и нечеткие, шириной 1,0 см. Восточная плита размерами 1,0 × 0,66 × 0,15 м украшена изображением 10 вертикальных резных волнистых линий со слабым изгибом и 4 линий с более крутым изгибом справа и слева тремя фигурками животных головами вправо, расположенных одна под другой. Длина
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита… фигурок около 10 см. Изображения схематичны: показаны длинная ушастая морда, вытянутое туловище, передняя и задняя ноги, хвост (рис. 38: 6).
Это единственный известный на сегодняшний день пример анималистических изображений на стенках каменного ящика.
В кургане 1 у с. Недайвода каменный ящик погребения 2 был установлен на юговосточном краю насыпи, обложенной гранитными плитами кромлеха, предположительно энеолитического времени (Мельник, Стеблина 2012: 301, 302).
Вероятно к этой же археологической ситуации следует отнести и погребение 4 в каменном ящике кургана Высокая Могила у с. Балки (Бідзіля, Яковенко 1971: 8—9, табл. IX—X). Стратиграфически это погребение следовало за основным в кургане энеолитическим погребением 7. Каменный ящик погребения 4 имел правильную прямоугольную форму и был сложен из 9 известняковых плит. Плиты тщательно подогнаны одна к другой и вкопаны в грунт на 0,25 м с забутовкой мелким щебнем. Размеры ящика 2,1 × 1,5 м, ориентация СВ— ЮЗ. Положение погребенного на спине с северо-восточной ориентацией, ноги, согнутые в коленях, упали вправо. Одна из плит поперечной стенки имела паз и была орнаментирована с внутренней стороны глубоко врезанным линейно-геометрическим рисунком: три параллельные линии сверху вниз под углом пересекали плиту. Еще 4 параллельные линии примыкали к первым под острым углом (рис. 37: 6 ). Остальное пространство было заполнено вложенными друг в друга острыми углами. Размеры плит 0,88 × 0,5 × 0,15 м. В погребении присутствовала охра (Ляшко 1989: 78).
Каменные ящики, впущенные в энеолитическую насыпь
Такой ящик открыт в погребении 6 кургана 1 у с. Малая Александровка, где, согласно реконструкции Ю.Я. Рассамакина, неорнаментированный каменный ящик был впущен в энеолитическую насыпь, окруженную кромлехом, связанным с предшествующими погребениями (Рассамакин, Евдокимов 2001: 72, прим. 2, 73—74). По мнению Г.Л. Евдокимова, кромлех был связан именно с погребением 6 в каменном ящике (Евдокимов и др. 1989: 107, 111).
По аналогичному сценарию совершено и погребение 3 в Первом Старосельском кургане. Первичным в этом кургане было энеолитическое погребение 19, совершенное в той же погребальной традиции, что и основное погребение 24 в Великой Александровке. Следующее погребение 16, впущенное в восточную полу насыпи-1, совершено в традиции II-A по Ю.Я. Рассамакину (Rassamakin 2004a: 96). За ним последовали погребения 17 и 15, совершенные в той же погребальной традиции III-C по Ю.Я. Рассамакину, что и погребение 23 великоалександровского кургана. Погребение 15 при этом было окружено кромлехом диаметром 8 м из грубых камней, установленных в ровик, возвышавшихся над уровнем поверхности на 0,4 м. Высота кургана, образовавшегося в результате последовательных досыпок над энеолитическими погребениями, предшествовавшими погребению 15, составила 3,2 м при диаметре 28 м (Шилов 1977: 51). На вершине этого кургана, в западной части кромлеха, связанного с энеолитическим погребением 15, в углублении размерами 3,2 × 2,3 × 0,9 м и был сооружен каменный ящик погребения 3 размерами 1,96 × 0,85 м, сложенный из 10 плит — по 1 плите в торцевых, по 3 плиты в боковых стенках и 2 плиты перекрытия сверху. Изнутри стенки ящика тщательно подтесаны до уровня пола. Стыки плит замазаны зеленой глиной и закрашены охрой. Охрой же полностью закрашены изнутри торцевые плиты. Боковые плиты орнаментированы углубленным елочным орнаментом, прокрашенным охрой. На утрамбованном земляном полу на камышовой циновке лежал
МАИАСП № 13. 2021
скелет женщины скорченно на спине головой на восток. Руки вытянуты вдоль тела, согнутые в коленях и поднятые ноги упали вправо. На черепе и верхней части туловища выявлены остатки мелко-ячеистой ткани и кожи, посыпанных охрой. Следы охры выявлены и на костях скелета. У южной стенки зафиксированы остатки дерева (рис. 39, 41: 1—3 ). Каменный ящик погребения 3 перекрыт насыпью, увеличившей высоту кургана до 4,5 м и диаметр до 37 × 33 м. Согласно реконструкции Ю.А. Шилова, досыпка в плане имела форму, аналогичную очертаниям кромлеха и насыпи над великоалександровским погребением 7 (Шилов 1977: 51, рис. 2; 1981: 39).
В том же Первом Старосельском кургане, позднее на один стратиграфический шаг, связанный с ямным погребением 7, было совершено еще одно погребение 4 в каменном ящике, устроенном в трапециевидной яме размерами 4,2—5,5 × 2,8 × 1,0—2,0 м. Ящик размерами 2,0 × 1,1 м состоял из 11 плит: по 2 плиты в торцевых и по 3 в боковых стенках, 2 плиты перекрытия ящика и 1 плита на дне ящика. Стыки плит стенок тщательно замазаны зеленой глиной и закрашены охрой. Внутри глубина ящика 0,85 м. Торцевые плиты изнутри всплошную закрашены охрой, плиты продольных стенок украшены елочным рисунком, на каждой плите особенным. Скелет взрослого мужчины лежал скорченно на спине, головой на север. Ноги, первоначально поднятые согнутыми коленями вверх, упали вправо, руки вытянуты вдоль тела. На костях и под ними найдены обрывки ткани и кожи, снаружи окрашенной охрой. У черепа и шейных позвонков лежали несколько кусочков смолы (Шилов 1977: 52; 1981: 39) (рис. 40; 41: 4—5 ).
В кургане 1 близ Скадовска погребение 12 в каменном ящике было впущено в энеолитическую насыпь-2, возведенную над погребением, совершенным в погребальной традиции II-А. Первичные энеолитические погребения кургана 1 были совершены в погребальной традиции III-A (Рассамакин, Евдокимов 1988: 86—87, рис. 6).
К этой же археологической ситуации относится и погребение 2 в неорнаментированном каменном ящике в кургана 59 у с. Верхне-Тарасовка, вкопанном в центр насыпи-1 высотой 3 м и диаметром 26 м, сооруженной над вытянутым на спине энеолитическим погребением в прямоугольной яме с закругленными углами размерами 2 × 0,9 × 0,4 м (Чередниченко 1975: 3—4, 15).
Возможно, что в рамках этой археологической ситуации следует рассматривать и погребение 15 кургана 40 у с. Софиевка. Погребение в каменном ящике было расположено у юго-западной полы первой насыпи, возведенной над энеолитическим погребением 7, окруженного кромлехом (Шилов 1973: 146, 157, 150—151, 161, альбом № 6, табл. III; Rassamakin 2004b: 123).
Основные погребения в орнаментированных каменных ящиках без кромлехов
Таковыми являются погребения в каменных ящиках с расписанными внутренними стенками в погребении 1 кургана 9 у с. Софиевка (Лесков 1972: 24—25), погребении 4 кургана 5 у Зелений Гай, погребении 17 кургана 2 у с. Андрусовка (Андросов, Мельник 1991: 35—37; Мельник, Стеблина 2012: 260, рис. 164), погребении 25 кургана 1 у с. Пересадовка (Никитин 2018: 51—52, рис. 20: 1 ), погребении 1 кургана 1 у с. Малосоленое (Шапошникова и др. 1987: 119—120), погребении 2 кургана 16 у с. Войновка (Тупчієнко 1992: 27, 29), погребении 1 кургана 2 у с. Старая Розановка (Шапошникова и др. 1973: 178—181), погребении 12 кургана 1 у с. Виноградовка (Шапошникова и др. 1979: 140, 149—151) (рис. 43: 1 ), погребении 8 кургана 9 у с. Константиновка (Шапошникова и др. 1973: 74—77)
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита…
(рис. 37: 5 ), погребении 35 кургана 1 у с. Висунск15 (Шапошникова и др. 1977: 70). Первичное погребение 1 Велико-Зименовского кургана было окружено ровиком (Иванова, Петренко, Ветчинникова 2005: 45, 48—50; см. также Петренко, Тощев 1990: 176, рис. 1—2). Основным было и погребение 6 в Долгой могиле возле Чертомлыка, совершенное в чистом поле к востоку от ранее существовавшего кургана ямной культуры высотой 2,85 м (рис. 42) и объединенное с ним с помощью досыпки, после которой новый общий курган стал овальным диаметром 34 × 46 м и высотой 4,5 м с плоской вершиной длиной 6—6,5 м (Мозолевський, Пустовалов 1999: 121).
В эту серию входят и два каменных ящика с расписанными внутри стенками и украшенными резным орнаментом наружными стенками. В кургане 1 у с. Пески на уровне древнего горизонта был сооружен ящик погребения 13 размерами 1,78 × 1,35 м, а без приставленных камней 0,84 × 0,86 м. Ящик из 6 плит в стенках (по 1 в торцевых и по 2 в продольных), 4 плит перекрытия, из которых 2 средних под весом грунта переломились и провалились внутрь ящика, и плит покрытия пола (1 большая и до 10 мелких). Плиты стенок были вкопаны в грунт. По углам ящика плиты снизу подклинены мелкими камнями.
Все плиты обработаны в разной степени. Плита IV в восточной торцевой стенке имела трещину по середине. Эта трещина замазана зеленым глеем, как и стыки между всеми плитами стенок и перекрытия. Снаружи стенки ящика подпирали приставные плиты и камни. На западной торцевой плите I зафиксированы два чашевидных углубления диаметром 0,07 м, глубиной 0,03 м. На верхней грани плиты II отмечены следы охры (рис. 35, 36: 2 ).
На внутренних сторонах плит I, II и IV имеются рисунки в виде древа жизни и иных комбинаций из прямых линий, нанесенных охрой (рис. 35, 36: 8: I, II, IV ).
На плите II в северной продольной стенке, по мнению автора раскопок, с внешней стороны четко выделен выступ головы, как у антропоморфных стел примитивного типа. По нашему мнению, фотографии и чертежи «четкого выступа головы» не демонстрируют.
Внешние стороны плит продольных стенок II, V и VI обработаны и украшены углубленным орнаментом из пересекающихся прямых и изогнутых линий в разных комбинациях. Ширина выбитых линий 0,06 м (рис. 36: 2, 5, 8 ). На плите перекрытия VII от середины на один из углов выдолблена такая же изогнутая линия (рис. 36: 7 ).
Дно ящика лежит на древнем горизонте. Площадь дна покрывала щебенкой. Поверх нее лежала каменная плита с закругленными краями размером 1,4 × 0,5 м со следами обмазки глеем, посыпки известью и охрой. Эта плита занимала центральную его часть. На остальной площади были уложены мелкие камни, засыпанные щебенкой. На плите лежали сложенные кости взрослого человека, черепом на запад. Предполагается, что покойник был расчленен, но нельзя исключать и перезахоронение останков (Шапошникова и др. 1972: 11—14).
Ящик из Песок по наличию гравировки наружных стенок близок ящику из кургана 1 погребения 1 у с. Березовка (рис. 37: 1—4 ). В отчете о раскопках этот ящик описан как впускной, но курган был потревожен местными жителями и ряд вопросов по конструкции кургана остался невыясненным (Бокий 1969: 6—7). Наружная гравировка стенок зафиксирована и у ящика основного погребения 1 кургана 5 у с. Ивановка (Шапошникова 1976: 216—217) (табл. 1).
36 М.Н. Дараган, С.В. Полин, Ю.М. Свойский МАИАСП № 13. 2021
Погребения в каменных ящиках, осуществленные на поверхности ямной насыпи
В кургане Ананьина могила близ г. Новая Одесса каменный ящик погребения 2 установлен на вершине насыпи-I высотой 3,5 м, диаметром 38—40 м, сооруженной над первичным в кургане погребением ямной культуры (Балушкин, Фоменко 2005: 296—399). Так же на вершине насыпи-I, насыпанной над ямным погребением, было установлено погребение 3 в каменном ящике в кургане 1 у с. Актово (Шапошникова и др. 1987: 55, 59). На поверхности насыпи-III высотой около 4,2 м и диаметром 31 м, сооруженной над погребениями ямной культуры установлен каменный ящик погребения 10 в кургане 4 у с. Ивановка (Шапошникова 1976: 203—206, табл. LXXXVI—LXXXVIII). На южном краю плоской вершины насыпи-IV, сооруженной над впускным погребением 26 в каменном ящике, был установлен каменный ящик погребения 10 в кургане 1 у с. Висунск (Шапошникова и др. 1977: 71). Стенки всех этих ящиков изнутри расписаны красной охрой (табл. 1).
Каменные ящики, впущенные в насыпь ямной культуры
Это одна из наиболее типичных археологических ситуаций для каменных ящиков т.н. кеми-обинской культуры. Именно так были совершены погребение 3 в кургане 29 у хут. Шевченко (Черных, Дараган 2014: 288—299), погребение 4 в кургане 1 у с. Староселье (Шилов 1977: 52), погребение 5 в кургане 14 у с. Золотая Балка (Кубышев и др. 1978: 36), погребение 5 в кургане 14 у с. Томарино (Рассамакин, Евдокимов 2010: 106—112), погребение 1 в кургане 1 у с. Старогорожено (рис. 43: 2—4 ) (Шапошникова и др. 1977: 103), погребение 26 в кургане 1 у с. Висунск (Шапошникова и др. 1977: 71), погребение 5 в кургане 1 у с. Виноградовка (Шапошникова и др. 1979: 141, 144—145), погребение 1 в кургане 1 у с. Катаржино (Иванова, Петренко, Ветчинникова 2005: 29—30), погребение 14 в кургане 1 группы Рядовые могилы у г. Кривой Рог (Мельник, Стеблина 2012: 139, 145—146), погребение 6 в кургане 6 у с. Зеленый Гай (Ковалева и др. 2003: 64, 77), погребение 7 в кургане 1 (Долгая могила) группы II у с. Широкое (Ковалева 1988: 28—30, рис. 6), погребения 20 и 22 в кургане 1 у с. Плющевка (Никитин 2018: 23—24), погребение 2 кургана 5 у с. Ивановка, устроенное в каменном саркофаге, выбитом из большой цельной глыбы известняка (Шапошникова и др. 1976: 219) (рис. 43: 4 ) и др. Все эти ящики, за исключением погребения 14 в кургане 1 группы Рядовые могилы у г. Кривой Рог, изнутри расписаны разными геометрическими композициями (табл. 1).
Таким образом, постройка каменных ящиков на вершине существующих насыпей известна и в ямное время, хотя в большей степени распространен или впуск каменных ящиков в существующую насыпь или его основное положение в кургане. При этом кромлехи не сооружались вокруг орнаментированных каменных ящиков или ящиков, безусловно, включенных в систему погребений ямной культуры. Только у двух каменных ящиков (Пески курган 1 погребение 13 и Березовка курган 1 погребение 1 — рис. 35—37) наружные стены были украшены гравированным геометрическим орнаментом (в сочетании с росписью красной охрой изнутри). Эти ящики были установлены или на древнем горизонте или на вершине насыпы и возможно их наружная гравировка указывает на то, что какое-то время они могли стоять на поверхности открытыми, не перекрытые курганной насыпью. Т.е., наружные орнаменты были доступны для обозрения, подобно орнаментированным плитам из кромлеха-1 в кургане у Великой Александровки. Линии сначала были выбиты, а потом были заполнены охрой в ящике погребения 1 в кургане 1 у с. Старогорожено (рис. 43: 4 ), на
МАИАСП Хронологическая последовательность 37 № 13. 2021 мегалитических погребальных комплексов энеолита… внешней стороне одной из плит ящика погребения 1 кургана 14 у с. Старые Беляры (Субботин 1995: 193), на плитах от ящика, использованных вторично для перекрытия погребения ямной культуры в кургане 1 у с. Великодолинское (Субботин 1995: 193, рис. 1: 1; Иванова, Петренко, Ветчинникова 2005: 136—138, рис. 65). Еще у одного ящика орнамент (анималистический и геометрический) был выгравирован на внутренней стенке ящика (Баратовка курган 1 погребение 8). Во всех остальных известных нам случаях, орнамент просто был нанесен красной охрой на внутренние стенки ящика. Погребение в каменных ящиках на Правобережье Нижнего Днепра и далее вплоть до Подунавья использовалось на протяжении всей ямной эпохи. В некоторых курганах (например, Широкое-II курган 1 погребения 7) захоронения в каменных ящиках завершали ямный цикл погребений в курганах. Известны и курганы с несколькими последовательными погребениями в каменных ящиках, совершенных по различному сценарию. В Первом Старосельском кургане два погребения в каменных ящиках: первое было впускным в энеолитическую насыпь, а второе — в одну из ямных. В кургане 1 у с. Висунск пять погребений в каменных ящиках: основное, возможно сооруженное еще в эпоху энеолита и 4 на этапе ямной культуры были впускными в ямные насыпи или установлены на их вершинах. В кургане 8 у с. Баратовка серию из погребений в каменных ящиках различных погребальных традиций эпохи энеолита завершило погребение ямного времени в каменном ящике, установленном на вершине энеолитической насыпи.
Зафиксированная в Великой Александровке археологическая ситуация, — каменный ящик, построенный на вершине энеолитического комплекса, окруженный кромлехом, — является уникальной. По совокупности признаков (стратиграфическая позиция, тип ящика, кромлех, поза погребенного) погребение можно отнести к числу переходных — наиболее поздних энеолитических или уже наиболее ранних ямных. Погребение, безусловно, демонстрирует преемственность погребальных традиций в данном микрорегионе . Близкая стратиграфическая последовательность, в том числе и с энеолитическими погребениями, совершенными в других погребальных традициях, зафиксирована и в других курганах Нижних Ингульца и Поднепровья (Баратовка курган 8, Староселье курган 1, Скадовск курган 1).
Вывод
Под курганом Великая Александровка выявлены три последовательных погребения времени среднего и позднего энеолита, отражающие различные погребальные традиции. Первичным было погребение 24, совершенное в традиции III-А по Ю.Я. Рассамакину, вторым было погребение 23 совершенное в традиции III-С и третьим — погребение 7 в каменном ящике, отражающее, по всей видимости, развитие энеолитической традиции II-А, продолжающейся в рамках ямной культуры.
Шаг стратиграфии между сооружением первых двух энеолитических погребений 24 и 23 и перекрывшей их насыпи-I и установкой на насыпи-I каменного ящика погребения 7 точно установить не представляется возможным, однако отсутствие растительной прослойки на ее поверхности позволяет предполагать, что он был незначительным. Реконструкции внешнего облика погребальных сооружений, дополненные наблюдениями за археологическими ситуациями по сооружению мегалитических конструкций в энеолите и в рамках ямной культуры, демонстрируют преемственность мегалитических традиций в рамках рассмотренного микрорегиона .
МАИАСП № 13. 2021
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита…
Таблица 1. Примеры орнаментации каменных ящиков из курганов энеолита—бронзы Северного Причерноморья и их стратиграфическая позиция в курганах ямной культуры
|
№ |
Пункт |
Изображения на плитах ящика |
Стратиграфии-ческая позиция |
Источник |
Место хранения |
|
1 |
Пески курган 1 погребение 13 |
Вж# №®Д^а Ида?! ®№$ зМ№ |
Основное в кургане |
Шапошникова и др. 1972: 11—14 |
НИЕЗ «Переяслав» Лапидарий А-718 |
|
2 |
Березовка курган 1 погребение 1 |
Основное или на вершине насыпи-I |
Бокий 1969: 6—7 |
? |
|
|
3 |
Долгая Могила возле Чертомлыка, погребение 6 |
/ Лг7а"ЧМ,^Х37 ~" ' Y I Т |
Основное, сооружено возле кургана ямной культуры |
Мозолевський, Пустовалов 1999: 121 |
Переданы в Никопольский краеведческий музей |
|
4 |
Виноградовка курган 1 погребение 12 |
Основное |
Шапошникова и др. 1979: 140, 149—151 |
НИЕЗ «Переяслав» Лапидарий |
|
|
5 |
Зелений Гай курган 5 погребение 4 |
Основное |
Мельник, Стеблина 2012: 260, рис. 164: 3 |
? |
|
|
6 |
Войновка курган 16 погребение 2 |
TFhrrfi1----1\ттт4?Ггт<1>---- |
Основное |
Тупчієнко 1992: 27, 29 |
? |
|
7 |
Андрусовка курган 2 погребение 17 |
Основное |
Андросов, Мельник 1991: 35—37 |
? |
МАИАСП № 13. 2021
Таблица 1. Примеры орнаментации каменных ящиков из курганов энеолита—бронзы Северного Причерноморья и их стратиграфическая позиция в курганах ямной культуры (продолжение)
|
№ |
Пункт |
Изображения на плитах ящика |
Стратиграфии-ческая позиция |
Источник |
Место хранения |
|
9 |
ст. Розановка курган 1 погребение 1 |
там |
Основное |
Шапошникова и др. 1973: 178— 181 |
НИЕЗ «Переяслав» Лапидарий |
|
10 |
Софиевка курган 9 погребение 1 |
/^^'< .Т^Й^^**^1^ |
Основное |
Лесков 1972: 24— 25, Альбом 1: табл. XXIX; Шилов 1982: 32, рис. 2: 2 |
? |
|
11 |
Пересадовка курган 1 погребение 25 |
Основное |
Никитин 2018: 51—52, рис. 20: 1 |
? |
|
|
12 |
Великозименовск ий курган погребение 1 |
ШИ CNM |
Основное |
Иванова, Петренко, Ветчинникова 2005: 45, 48—50, рис. 31 |
? |
|
13 |
Долинка курган 1 погребение 3 |
Основное |
Тощев 2007: 77, рис. 37: 2 |
? |
|
|
14 |
Баратовка курган 1 погребение 8 |
На вершине энеолитической насыпи |
Петренко, Елагина 1968: 35—38 |
? |
|
|
15 |
Высокая Могила погребение 4 |
На вершине энеолитической насыпи |
Бідзіля, Яковенко 1971: 8—9, табл. IX—X |
? |
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита…
Таблица 1. Примеры орнаментации каменных ящиков из курганов энеолита—бронзы Северного Причерноморья и их стратиграфическая позиция в курганах ямной культуры (продолжение)
|
№ |
Пункт |
Изображения на плитах ящика |
Стратиграфии-ческая позиция |
Источник |
Место хранения |
|
16 |
Староселье курган 1 погребение 3 |
v . ,- 7 vn _ , VI1L _ |
Впускное в энеолити-ческую насыпь-I |
Шилов 1977: 51, рис. 2; 1982: 29—30, рис. 2, 4. |
НИЕЗ «Переяслав» Павільйон «Старосільськ і кургани» |
|
17 |
Долгинцево курган 1 погребение 6 |
X><7^ >< |
Впускное в энеолитическую насыпь |
Мельник, Стеблина 2012: рис. 266, 14; 2013: 66, 68 |
? |
|
18 |
Ивановка курган 4 погребение 10 |
На вершине ямной насыпи |
Шапошникова 1976: 203—206, Табл. LXXXVI— VIII |
НИЕЗ «Переяслав» Лапидарий |
|
|
19 |
Малосоленое курган 1 погребение 1 |
На вершине ямной насыпи |
Балушкин, Фоменко 2005: 296—399 |
? |
|
|
20 |
Староселье курган 1 погребение 4 |
1 II 1» I V V VI VII VIII IX x .
W№
»< |
Впускное в ямную насыпь |
Шилов 1977: 52; 1982: 31, рис. 32: 3 |
НИЕЗ «Переяслав» Павільйон «Старосільськ і кургани» А-714 |
МАИАСП № 13. 2021
Таблица 1. Примеры орнаментации каменных ящиков из курганов энеолита—бронзы Северного Причерноморья и их стратиграфическая позиция в курганах ямной культуры (продолжение)
|
№ |
Пункт |
Изображения на плитах ящика |
Стратиграфии-ческая позиция |
Источник |
Место хранения |
|
21 |
Золотая Балка курган 14 погребение 3 |
“^ 1 ' U ггт VP VPMA^—^TT--n LO О П |
Впускное в ямную насыпь |
Кубышев и др. 1978: 36 |
НИЕЗ «Переяслав» Лапидарий |
|
22 |
Томарино курган 14 погребение 5 |
zjztibzxdnjb |
Впускное в ямную насыпь |
Рассамакин, Евдокимов 2010: 106—112, рис. 9 |
? |
|
23 |
Рахмановка курган 4 погребение 9 |
Впускное (?) |
Мельник, Стеблина 2012: рис. 289 |
Днепропетров ский национальный исторический музей КП-15772 А-8704/1-6 |
|
|
24 |
Войково, Кривой Рог, ЮГОК погребение 1 |
Й^НВИ® И' |
Впускное или установлено на вершине первичной насыпи |
Мельник, Стеблина 2012: рис. 162: 2—3 |
? |
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита…
Таблица 1. Примеры орнаментации каменных ящиков из курганов энеолита—бронзы Северного Причерноморья и их стратиграфическая позиция в курганах ямной культуры (продолжение)
|
№ |
Пункт |
Изображения на плитах ящика |
Стратиграфии-ческая позиция |
Источник |
Место хранения |
|
25 |
Шахтер курган 29 погребение 3 |
Впускное в ямную насыпь |
Черных, Дараган 2014: 288—299 |
г. Покров (Орджонікідзе ) "Покровский центр подготовки и переподготовк и рабочих кадров» |
|
|
26 |
Зеленый Гай курган 6 погребение 6 |
Впускное в ямную насыпь |
Ковалева и др. 2003: 64, 77, рис. 22: 3 |
? |
|
|
27 |
Ковалевка I курган 4 погребение 1 |
мм_- |
Стратиграфическая позиция не установлена |
Ковпаненко, Бунятян, Гаврилюк 1978: 28—29, рис.13: 6—8 |
? |
|
28 |
Майоровка курган 4 погребение 17 |
Стратиграфическая позиция не установлена |
Шарафутдинова 1971 |
НИЕЗ «Переяслав» Лапидарий А-716 |
|
|
29 |
Ивановка курган 5 погребение 2 |
^k1 —^l |
Впускное в ямную насыпь |
Шапошникова и др. 1976: 216— 217 |
НИЕЗ «Переяслав» «Старосільськ і кургани» А-719 |
МАИАСП № 13. 2021
Таблица 1. Примеры орнаментации каменных ящиков из курганов энеолита—бронзы Северного Причерноморья и их стратиграфическая позиция в курганах ямной культуры (продолжение)
|
№ |
Пункт |
Изображения на плитах ящика |
Стратиграфии-ческая позиция |
Источник |
Место хранения |
|
30 |
Старогорожено курган 1 погребение 1 |
Впускное в ямную насыпь-III |
Шапошникова и др. 1977: 103 |
НИЕЗ «Переяслав» Лапидарий А-715 |
|
|
31 |
Плющевка курган 1 погребение 22 |
0QK3Q@B |
Впускное в ямную насыпь |
Никитин 2018: рис. 9: 1—2 |
? |
|
32 |
Широкое-II курган 1 погребение 7 |
ПТ' l^^H Tlr^^ г т11Д н /С . |
Впускное в ямную насыпь |
Ковалева 1988: 28—30, рис. 6 |
? |
|
33 |
Катаржино курган 1 погребение 1 |
[ГСТИч 'v LlMJ(£_£d |
Впускное в ямную насыпь |
Иванова, Петренко, Ветчинникова 2005: 29, рис. 19 |
? |
|
34 |
Старые Беляры курган 1 погребение 14 |
Впускное в ямную насыпь |
Субботин 1995: 193, рис. 1: 4—5 ; Иванова 2013: рис. 44: 10 |
? |
МАИАСП № 13. 2021
Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита…
Таблица 1. Примеры орнаментации каменных ящиков из курганов энеолита—бронзы Северного Причерноморья и их стратиграфическая позиция в курганах ямной культуры (продолжение)
|
№ |
Пункт |
Изображения на плитах ящика |
Стратиграфии-ческая позиция |
Источник |
Место хранения |
|
35 |
Пионерское курган 2, погребение 2 |
Впускное в ямную насыпь Орнамент нанесен красными и белыми красками на черном фоне |
Тощев 2007: 65, рис. 35: 10 |
с. Пионерское Симферопольс кий р-н, Крым |
|
|
36 |
Красная Зорька курган 1, погребение 1 |
Впускное в ямную насыпь. Орнамент нанесен красной краской на черном фоне |
Тощев 2007: 65, рис. 35: 7 |
Ботанический сад Таврического национального университета им. В. И. Вернадского |
МАИАСП № 13. 2021
Список литературы Хронологическая последовательность мегалитических погребальных комплексов энеолита в кургане у пгт. Великая Александровка
- Андросов А.В. 1986. Курган эпохи бронзы у села Новый Мир. Проблемы археологии Поднепровья 3, 67—78.
- Андросов А.В., Мельник А.А. 1991. Курганы раннего бронзового века Криворожья с зооморфными конструкциями. Проблемы археологии Поднепровья 5, 35—50.
- Арив Рудинського: НА ИА НАНУ. Ф. 30. № 25/6. Конверт № 6. Рудинський М.Я. Арив. Кам'яна Могила.
- Балушкин А.М, Фоменко В.Н. 2005. Курган «Ананьина Могила» близ г. Новая Одесса Николаевской обл. Археолог1чт до^дження в Украгт 2004—2005, 396—409.
- Бщзшя, Яковенко 1971: НА ИА НАНУ. № 1971/24а. Бщзшя В.И., Яковенко Э. 1971. Звгг про розкопки кургану «Висока могила» бшя с. Балки Васил1вського району, Запор1зько! обл.
- Бокий 1969: НА ИА НАНУ. № 1969/65. Бокий Н.М. Отчет об археологических раскопках Кировоградского краеведческого музея за 1969 год.
- Бузян Г. 2015. М.1. С1корський та етапи становлення археолопчного роздшу музею народно! архггектури та побуту Середньо! Наддншрянщини Н1ЕЗ «Переяслав». Hayrnei записки Н1ЕЗ «Переяслав» 9 (11), 18—44.
- Горячев А.А., Егорова Т.А. 2011. Художественное своеобразие и семантический анализ образов «солнцеголовых» эпохи бронзы урочища Тамгалы в свете материалов письменной и изобразительной традиции древних цивилизаций. История и археология Семиречья 4, 27—47.
- Гребенников, Симоненко 1992: НА ИА НАНУ. № 1992/227. Гребенников Ю.С., Симоненко А.В. Отчет об археологических исследованиях 1992 г. в Николаевской обл.
- Давня iсторiя Украгни. 1994. Кн. 1. Кшв: Либщь.
- Дараган М.Н. 2015. Опыт 3D-моделирования курганных сооружений эпохи энеолита-бронзы. В: Гук Д.Ю. (ред.). Виртуальная археология (эффективность методов): Материалы Второй Международной конференции, состоявшейся в Государственном Эрмитаже 1—3 июня 2015 года. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 127—138.
- Дергачев В.А. 1980. Памятники позднего Триполья (опыт систематизации). Кишинев: Штиинца.
- Евдокимов Г.Л., Рассамакин Ю.Я. 1988. Два позднеэнеолитических могильника на юге Херсонщини. В: Шапошникова О.Г. (ред.). Новые памятники ямной культуры степной зоны Украины. Киев: Наукова думка, 79—92.
- Евдокимов, Солтыс 1989: НА ИА НАНУ. №1989/24. Евдокимов Г.Л., Солтыс О.Б. Отчет о раскопках курганов в зоне строительства оросительных систем Херсонской области Краснознаменской экспедиции в 1989 г.
- Елинова и др. 1984: НА ИА НАНУ. № 1984/101. Елинова Л.П., Голубчик Л.Н., Чурилова Л.Н. Отчет об археологических раскопках музея на землях Марганецкого горно-обогатительного комбината в 1984 г.
- Збенович, В.Г. 1974. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. Киев: Наука думка.
- Иванова С.В., Петренко В.Г., Ветчинникова Н.Е. 2005. Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра. Одесса: КП ОГТ.
- Иванова С.В. 2013. Ямная (буджакская культура). Древние культуры Северо-Западного Причерноморья (к 95 летию Национальной академии наук Украины). Одесса: Одесский археологический музей; СМИЛ, 211—254.
- Ковалева И.Ф. 1978. Погребения «Животиловского» типа в Присамарье. В: Ковалева И.Ф. (ред.). Курганные древности степного Поднепровья III—I тыс. до. н.э. Днепропетровск: ДГУ, 69—88.
- Ковалева И.Ф. 1988. Культурные комплексы так называемых длинных курганов эпохи бронзы. Археологические памятники Поднепровья в системе древностей Восточной Европы. Днепропетровск: ДГУ, 20—33.
- Ковалева И.Ф. 1991a. Новоалександровский энеолитический курган в Днепровском Надпорожье. Древности Северного Причерноморья и Крыма II, 30—38.
- Ковалева И.Ф. 1991b. Погребения с майкопским инвентарем в Левобережье Днепра (к выделению животиловского культурного типа). В: Ковалева И.Ф. (отв. ред.). Проблемы археологии Поднепровья. Днепропетровск: ДГУ, 69—88.
- Ковалева и др. 1989: НА ИА НАНУ. № 1989/181. Ковалева И.Ф., Шалобудов В.Н., Мухопад С.Е., Андросов А.В. 1989. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: Археологические исследования курганов в зонах строительства оросительных систем в Днепропетровской области.
- Ковалева и др. 2003: Ковалева И.Ф., Марина З.П., Ромашко В.А., Тесленко Д.Л., Шалобудов В.Н., Векленко В.А. 2003. Курганы энеолита — бронзы в Криворожском течении Ингульца. Днепропетровск: ДГУ.
- Ковальова И.Ф., Шалобудов В.Н. 1992. Курган эпохи бронзы возле с. Боровковка. Старожитност1 степу Швтчного Причорномор'я та Криму III, 105—113.
- Ковпаненко Г.Т., Бунятян Е.П., Гаврилюк Н.А. 1978. Раскопки курганов у с. Ковалевка. В: Генинг B.Ф. (ред.). Курганы на Южном Буге. Киев: Наукова Думка, 7—132.
- Ковпаненко Г.Т., Фоменко В.М. 1986. Поховання доби енеолггу — ранньо! бронзи на правобережжi Ивденного Бугу. Археолог1я 55, 10—25. Кубышев А.И., Полин С.В., Черняков И.Т. 1985. Погребение раннежелезного века на Ингульце. СА 4, 144—154.
- Кубышев и др. 1977: НА ИА НАНУ. № 1977/23. Кубышев А.И., Дорофеев В.В., Николова А.В., Полин С.В., Симоненко А.В., Битковский О.В. Отчет о работе Херсонской археологической экспедиции ИА АН УССР в зоне строительства Каховской оросительной системы в 1977 г. Кубышев и др. 1978: НА ИА НАНУ. № 1978/17.
- Кубышев А.И., Дорофеев В.В., Симоненко А.В., Полин С.В., Битковский А.В., Якунов С.А. 1978. Отчет о работе Херсонской археологической экспедиции ИА АНН УССР Исследований курганной группы «Рядовые курганы» в зоне строительства Золотобалковской о/с в Нововоронцовском р-не, Херсонской обл. Кубышев и др. 1979: НА ИА НАНУ. № 1979/32.
- Кубышев А.И., Дорофеев В.В., Гошко Т.Ю., Марченко И.Л., Сердюков В.В. Отчет о раскопках Херсонской археологической экспедиции в зоне строительства орошаемых участков Каховской оросительной системы в Херсонской области в 1979 г. Кубышев и др. 1981: НА ИА НАНУ. № 1981/19. Кубышев А.И., Дорофеев В.В., Шилов Ю.А., Полин
- C.В., Черняков И.Т., Битковский О.В., Сердюков В.В., Солтис О.Б., Шевченко Н.П. Отчёт о работах Херсонской археологической экспедиции в 1981 г.
- Лесков А.М. 1972: НА ИА НАНУ. № 1972/35. Лесков А.М. 1972. Отчет о работе Херсонской археологической экспедиции в 1972 году
- Ляшко С.Н. 1989. Погребения кеми-обинской культуры на побережье Каховского водохранилища. Тезисы Всесоюзной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Бориса Николаевича Гракова. Запорожье: ЗГУ, 77—79.
- Мельник О.О., Стеблина 1.О. 2012. Кургани Кривор1жжя. Кривий Рш Видавничий дiм.
- Мельник О.О., Стеблина 1.О. 2013. Ямна культура середньог течИ' 1нгульця. Кривий Рк\ Видавничий дiм. Михайлов Б. 2005 Петрогл1фи Кам 'яног могили: Семантика. Хронолог1я. 1нтерпритащя. Кшв: МАУП.
- Мозолевский и др. 1986: НА ИА НАНУ. № 1986/15. Мозолевский Б.Н., Полин С.В., Николова А.В.,
- Левченко В.Н. Отчет о работах Орджоникидзевской экспедиции в 1986 г. Мозолевский Б.Н., Полин С.В. 2005. Курганы скифского Герроса IV в. до н.э. (Бабина, Водяна и
- Соболева могилы). Киев: Стилос. Мозолевський Б.М., Пустовалов С.Ж. 1999. Курган «Довга Могила» з групи Чортомлика.
- Культуролог1чт студИ' 2, 118—140. Никитин В.И. 2018. Курганы Нижнего Поингулья. Николаев: Илион. Патокова Э.Ф. 1979. Усатовское поселение и могильники. Киев: Наукова думка.
- Петренко В.Г. 2013. Усатовская культура. Древние культуры Северо-Западного Причерноморья (к 95 летию Национальной академии наук Украины). Одесса: Одесский археологический музей; СМИЛ, 163—210.
- Петренко, Елагина 1968: НА ИА НАНУ. № 1968/54. Петренко В.Г., Елагина НЕ. Отчет об археологических раскопках, произведенных Ингулецкой скифской степной экспедицией в 1968 г.
- Петренко В.Г., Тощев Г.Н. 1990. Велико-Зиминовский курган бронзового века. Вестник Черноморской ассоциации археологов и любителей древностей 1. Охранные историко-археологические исследования на юго-западе Украины, 71—86.
- Пюро В. 1999. Новi знахщки антропоморфних стел та кромлехiв в курганах ямно! культури. Vita Antiqua 1, 41—45.
- Пиотровский Ю.Ю. 1994. Заметки о сосудах с изображениями из Майкопского кургана (Ошад).
- Проблемы археологии 3. Памятники древнего и средневекового искусства. Сборник статей в память профессора В.И. Равдоникаса, 85—92. Пиотровский Ю.Ю. 2020. Майкопский курган (Ошад): современный вигляд. Camera praehistorica 1 (4), 61—75.
- Рассамакин Ю.Я., Евдокимов Г.Л. 2001. Новый энеолитический могильник на р. Ингулец и проблема выделения «постстоговских» погребений. АА 10, 71—86.
- Рассамакин Ю.Я., Евдокимов Г.Л. 2006. Новый позднеэнеолитический могильник на юге Херсонщины в свете региональных исследований степного энеолита. Донецький археологячний 36ipHUK 12, 4—31.
- Рассамакин Ю. Я. Евдокимов Г.Л. 2010. Курган у с. Томарино с погребением в расписном каменном ящике. Матерiали та до^дження з археологи CxidHOi Украгни 10, 100—122.
- Рассамакин Ю.Я., Евдокимов Г.Л. 2010. Новый позднеэнеолитический могильник на юге Херсонщины в свете региональных исследований степного энеолита. Донецький археологячний збiрник 13/14, 7—29.
- Рассамакин Ю.Я., Евдокимов Г.Л. 2011. О Северной границе распространения погребений в каменных ящиках эпохи ранней бронзы. Матерiали та до^дження з археологи Cxiдноi Украгни 11, 80—95.
- Рассамакш Ю.Я. 1992. До проблеми вивчення курганних споруд. Арxеологiя 4, 121—137.
- Субботин Л.В., Петренко В.Г. 1986. Об архитектуре усатовских сооружений. В: Дзис-Райко Г.А. (ред.). Памятники древнего искусства Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наукова думка, 26—43.
- Субботин Л.В. 1995. Гробницы кеми-обинского типа Северо-Западного Причерноморья. СА 3, 193—197.
- Сушко К. 2004. Вiщий Степ. Запорiжжя: Пол^раф.
- Тереножкин и др. 1973: НА ИА НАНУ. № 1973/10. Тереножкин А.И., Кубишев А.И., Ильинская В.А., Болдин Я.1., Чередниченко Н.Н., Шилов Ю.А. Отчет о работе Херсонской археологической экспедиции в 1973 г.
- Тесленко Д.Л. 1999. Перюдизащя ямних поховань Дшпровського Надпорiжжя та Правобережного Передстепу. Проблеми археологиПоднтров'я 2, 82—104.
- Тесленко Д.Л. 2002. К вопросу о территории распространения каменных гробниц энеолита-ранней бронзы степной Украины. В: Яровой Е.В. (ред.). Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного-Причерноморья (V тыс. до н.э. — V век н.э.). Доклады научной конференции. Тирасполь: [б.и.], 107—111.
- Тесленко Д.Л. 2005. О посмариупольских/квитнянских погребениях в каменных гробницах. Древности 2005. Харьковский историко-археологический ежегодник, 130—142.
- Тесленко Д.Л. 2007. Об эволюции мегалитических сооружений в Северном Причерноморье и Приазовье (энеолит-ранний бронзовый век). Матерiали та до^дження з археологи Cxiдноi Украгни 7, 76—85.
- Тесленко Д.Л., Гребенников Ю.С. 2002. Погребения в каменных гробницах из кургана у с. Весняное на Николаевщине. В: Ковалева И.Ф. (ред.). Проблеми археологи Поднтров'я. Дншропетровськ: ДГУ, 82—90.
- Тощев Г.Н. 2004. К вопросу о Кеми-обинской культуре. Древности 2004. Харьковский историко-археологический ежегодник, 96—113.
- Тощев Г.Н. 2007. Крым в эпоху бронзы. Запорожье: ЗНУ.
- Тощев Г. 2014. Кромлехи с каменными плитами со знаками в Причерноморье и Крыму. Revista Arheologica, serie nouá, Vol. X, nr. 1-2, 203—205.
- Трифонов В.А. 2014. Западные пределы распространения майкопской культуры. Известия Самарского научного центра Российской академии наук 16, 276—283.
- Тупчieнко 1992: НА ИА НАНУ. № 1992/49. Тупчieнко М.П. Звгт Юровоградсько! охоронно! археолопчно! експедицп про дослщження кургашв в Юровоградському та Олександршському районах у 1992 р.
- Черных Л.А., Дараган М.Н. 2014. Курганы эпохи энеолита-бронзы междуречья Базавлука, Соленой, Чертомлыка. Киев; Берлин: Издатель Олег Филюк (Курганы Украины 4).
- Формозов А. А. 1955. Изображения на плитах кромлеха из кургана у с. Вербовка. Краткие сообщения Института археологии АН УССР 5, 71—74.
- Шапошникова О.Г. 1985. Памятники нижнемихайловского типа. Археология Украинской ССР. Том 1. Киев: Наукова Думка, 324—331.
- Шапошникова, Бочкарев 1972: НА ИА НАНУ. № 1972/3. Шапошникова О.Г., Бочкарев В.С. Отчет о работе Ингульской экспедиции в 1972 г.
- Шапошникова и др. 1973: НА ИА НАНУ. № 1973/8. Шапошникова О.Г., Фоменко В.Н., Бочкарев В.С., Гребенников Ю.С., Рычков Н.А., Ребедайло Г.П., Клюшинцев В.Н. Отчет о работе Ингульской экспедиции в 1973 г.
- Шапошникова и др. 1976: НА ИА НАНУ. № 1976/7. Шапошникова О.Г. Фоменко В.Н., Балушкин А.М., Гребенников Ю.С., Довженко Н.Д., Елисеев В.Ф., Клюшинцев В.Н., Магомедов Б.Л., Некрасова А.Н., Ребедайло Г.П., Рычков Н.А., Чмыхов Н.А. Отчет о работе Ингульской экспедиции за 1976 г.
- Шапошникова и др. 1979: НА ИА НАНУ. № 1979/6. Шапошникова О. Г, Балушкин А.М., Гребенников Ю.С., Довженко Н.Д., Елисеев В.Ф., Клюшинцев В.Н., Ребедайло Г.П., Товкайло Н.Т., Фоменко В.Н. Отчет Ингульской (Николаевской) экспедиции за 1979 г.
- Шапошникова и др. 1987: НА ИА НАНУ, № 1987/21. Шапошникова О.Г., Балушкин А.М, Гребенников Ю.С., Елисеев В.Ф., Довженко Н.Д., Клюшинцев В.Н., Солтыс О.В., Товкайло Н.Т., Фоменко В.Н., Е.П.Шепель. Отчет о работе Николаевской экспедиции в 1987 г.
- Шапошникова О.Г., Фоменко В.Н., Балушкин А.М. 1977. Курганная группа близ с. Старогорожено. В: Шапошникова О.Г. (ред.). Древности Поингулья. Киев: Наукова думка, 99—145
- Шарафутдинова И.Н. 1980. Северная курганная группа у с. Соколовка. В: Шапошникова О.Г. (ред.). Археологические памятники Поингулья. Киев: Наукова думка, 71—124.
- Шилов 1973: НА ИА НАНУ. № 1973/10А. Шилов Ю.А. 1973. Отчет о раскопках курганной группы у с.Софиевка Каховского района Херсонской области.
- Шилов Ю.А. 1977. Первый и Четвертый Старосельский курганы. Археолог1я 22, 65—73.
- Шилов Ю.О. 1981. Обсерваторп та календарi у курганах Нижнього Подшпров'я III—II тис. до н.е. Нариси з ¡сторп природознавства i техники 27, 38—42.
- Шилов Ю.А. 1982. Календарная символика и хронология кеми-обинских погребений из кургана у с. Староселье. В: Телегин Д.Я. (ред.). Материалы по хронологии археологических памятников Украины. Кшв: Наукова Думка, 29—38.
- Шилов Ю.А. 1988. « Грот Быка» по материалам древнейших курганов. В: Шапошникова О.Г. (ред.). Новые памятники ямной культуры степной зоны Украины. Киев: Наукова думка, 3—14.
- Шилов Ю.А. 2000. Исследования у Староселья в 1994 году. Археологiчнi до^дження в УкраЫ в 1994—1996роках, 177—179.
- Щепинский А.А. 1966. Культуры эпохи энеолита и бронзы в Крыму. СА 2, 10—23.
- Щепинский А.А. 1985. Кеми-обинская культура. Археология Украинской ССР. Т. 1. Киев: Наукова Думка, 331—336.
- Щепинский А.А., Тощев Г.Н. 2001. Курган «Кеми-Оба». Старожитностi Степового Причорномор 'я i Криму IX, 50—86.
- Чередниченко и др. 1975: НА ИА НАНУ. № 1975/11. Чередниченко Н.Н., Бессонова С.С., Болдин Я.1., Бунятян Е.П., Ковалева Л.Г., Козловский А.А., Орлов Р.С., Пустовалов С.Ж., Орлов К.К., Рассамакин Ю.Я., Шевченко Н.П., Бобыр И.Г. Отчет о работе Верхне-Тарасовской экспедиции в 1975 г. «Исследование курганов».
- Чурилова, Нор 1986: НА ИА НАНУ. № 1986/50. Чурилова Л.Н., Нор Е.В. Отчет о раскопках курганов на землях колхоза Аврора Никопольского р- на Днепропетровской области в 1986 г.
- Rassamakin Ju.Ja. 2004a. Die nordpontische Steppe in der Kupferzeit. Gräber aus der Mitte des 5. Jts. bis Ende des 4. Jts. v. Chr. Mainz: Philipp von Zabern (Archäologie in Eurasien 17).
- Rassamakin Ju.Ja. 2004b. Die nordpontische Steppe in der Kupferzeit. Gräber aus der Mitte des 5. Jts. bis Ende des 4. Jts. v. Chr. Th. II. Katalog, Tafeln. Mainz: Philipp von Zabern (Archäologie in Eurasien 17).
- Radchenko S., Nykonenko D. 2019. Rock Art from the Western Edge of the Steppe: Engravings Inside the Bull Grotto at the Kamyana Mohyla Site. Expression, 24, 49—62.