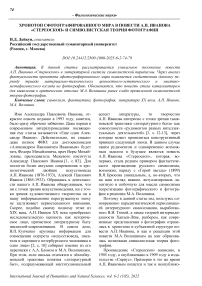Хронотоп сфотографированного мира в повести А.П. Иванова «Стереоскоп» и символистская теория фотографии
Автор: Дейкун И.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 6-2 (105), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается уникальное положение повести А.П. Иванова «Стереоскоп» в литературной системе символистской парадигмы. Через анализ фактуальности хронотопа сфотографированного мира выявляется свойственная данному периоду триада материально-технического, ценностного-эстетического и мистико-метафизического взгляда на фотографию. Обозначается, что повесть стала катализатором для выявления в критическом отклике М.А. Волошина ранее слабо проявленной символистской теории фотографии.
Символизм, фантастика, фотография, литература хх века, а.п. иванов, м.а. волошин
Короткий адрес: https://sciup.org/170210663
IDR: 170210663 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-6-2-74-79
Текст научной статьи Хронотоп сфотографированного мира в повести А.П. Иванова «Стереоскоп» и символистская теория фотографии
Имя Александра Павловича Иванова, открытое совсем недавно в 1993 году, кажется, было сразу обречено забвению. Даже первая в современном литературоведении посвященная ему статья называется «Еще один Александр Иванов». Действительно, не спасает даже полное ФИО: для достоевсковедов «Александром Павловичем Ивановым» будет зять Федора Михайловича, врач Веры Михайловны, преподаватель Межевого института Александр Павлович Иванов [1, с. 83]. Для геологов более актуален современник и хронологический двойник искусствоведа А.П. Иванова (1876-1933), Алексей Павлович Иванов (1865-1933). Обращаясь к деятельности нашего А.П. Иванова обнаруживаем, что ни с точки зрения искусствоведения, ни с точки зрения художественного творчества он в нашу информационно перегруженную эпоху не заслуживает первостепенного внимания. Скорее, подобно своему полному тезке из XIX века, А.П. Иванов ХХ века приобретает исследовательскую ценность как историческое лицо, причастное литературному быту писателей-современников. В самом деле, В.П. Купченко крупицы информации для совмещения портрета «искусствоведа, писателя и скромного петербургского чиновника в одно лицо» [2, с. 10] собирает именно из его переписки с А.А. Блоком и М.А. Волошиным. При этом, если письма относятся к эйхенбау-мовской трактовке понятия «литературный быт», подразумевающей институциональный аспект литературы, то творчество А.П. Иванова интересно с точки зрения тыняновской трактовки «литературного быта» как совокупности «рудиментов разных интеллектуальных деятельностей» [3, с. 12-13], через которые может проявляться конструктивный принцип следующей эпохи. В данном случае таким рудиментом и одновременно возможным заделом в будущее является повесть А.П. Иванова «Стереоскоп», которая, во-первых, стала редким примером фантастического произведения русского символизма, возможно, наряду с «Горой звезды» (1899) В.Я. Брюсова уникальным, а, во-вторых, что на наш взгляд важнее, актуализировала латентную и побочную для мысли символизма теоретизацию фотографического и фотографии в рецензии М.А. Волошина.
Поэтому в данной статье мы, пользуясь одновременно парадигматической периодизацией литературного самосознания, выработанного В.И. Тюпой, а также теорией интермеди-альности Ханзен-Лёве, разберем, как современные представления о фотографии отразились в хронотопе и субъектной структуре повести А.П. Иванова, и как в рецепции этой повести М.А. Волошиным на миг обрисовалась возможная символистская теория фотографии.
Произведение «Стереоскоп» написано, в 1905 году, а опубликовано в 1909 году в издательстве «Сириус». Примерно в это же время А.П. Ивановым пишется и так и неопублико- ванный впоследствии рассказ «Городище» (1906). Оба произведения представляют собой опусы окрепшего пера автора-любителя: а) в них сильно проглядывает претекст: статья Н. Рериха «На кургане» [4, с. 17] и культурный, эрмитажный текст [5, с. 84], повествовательная манера однообразна и опирается во многом на штампы символизма, в произведениях присутствует художественно необработанный автобиографический пласт, а кругозор имплицитного автора совпадает с реконструируемым нами кругозором автора биографического. Можно исходя из этого сказать, что как художник слова, А.П. Иванов не состоялся, и вряд ли он, чиновник департамента железнодорожных дел, пишущий на досуге искусствоведческие труды, стремился к этому. Тем ироничнее, что «Стереоскоп», будучи произведением второго или третьего ряда, является уникальным и по жанру, и по тематике. Так, А.А. Блок отозвался о повести как об одном из «первых в русской литературе «научных» опытов искусства» [6, с. 292]. В контексте этого блоковского письма видно, что «научное» образует в мысли поэта оппозицию с «хаотичным», неоформленным, и близко понятию «математическое». В последней ассоциации видно влияние вышедшей ранее рецензии В.Я. Брюсова (1909). «Математическое», согласно ему, – это метод фантастического повествования, при котором в воображаемом мире произведения выстраивается аналогичная реальному миру причинноследственная связь, за исключением возможности одного фантастического явления, в случае «Стереоскопа» наличия мира фотографии [7, c. 81]. И Блок, и Брюсов воспринимают произведение А.П. Иванова в свете его жанровой принадлежности к образцам ранней фантастики, еще слитой в их сознании с произведениями романтической литературы ужасов и мистики. «Стереоскоп» дает для этого все условия. Герой, от лица которого ведется повествование, покупает фотографическое устройство с загадочно поблескивающими окулярами и запаянной камерой, где зафиксирован единственный стереоскопический (снятый двумя камерами и таким образом приобретший объем) стеклянный снимок зала Эрмитажа. Наблюдая за этим снимком дома, герой переходит из реального мира в фотографический. Описание фотографического мира как застывшего прошлого во всей его материальности и составляет брюсовское «фантастическое» этой повести. В сюжетном плане перед нами контаминация двух мотивов, восходящих к литературе романтического гротеска как приема алогического соединения преувеличенных качеств описываемого, приводящих к суггестии жуткого, неприятного, странного, ужасающего [8]. До момента перемещения героя в мир фотографического перед нами развертывается история об «ожившем портрете», присутствующего в произведении через метонимию зрения: найденный на аукционе стереоскоп привлекает героя блеском окуляров, тем, что «в призматических трубках большие выпуклые линзы странно отражали свет» [9, с. 12], затем он, подобно гоголевскому Черткову, переносит странный предмет в свою комнату, в личное пространство, где последний начинает оказывать на него странное необъяснимое влияние. Сам момент перемещения героя – отвечает мотиву «вхождения в картину»: «Росло старое волнение и старое волшебство все больше овладевало мною; хотелось пройтись по этому мертвому залу…» и далее: «Призрачные очертания зала и всех предметов в нем стали расти; зал словно приближался ко мне, принимал меня в себя…» [9, c. 18]. Наконец, финальное оживление замерших двойников в фотографической вселенной и погоня вновь возвращают нас к «ожившему портрету», и внутри нее к более древнему мотиву «ожившей статуи»: «Фантоша качнулась, стала склоняться на бок медленно потом быстрее и быстрее, и наконец рухнула…» [9, c. 34].
С другой стороны, именно романтический компонент грешит против «научности» и «ма-тематичности», что странным образом не замечают В.Я. Брюсов и А.А. Блок.
Хронотоп, сформированный чрезвычайно дотошным описанием фотографического мира, предполагает совмещение двух рядов фак-туальностей: реального мира действительности перволичного рассказчика и фантастического, но описываемого как реальный мира-копии, содержащейся в стереоскопическом снимке. Мы можем выделить следующие законы этого мира: 1. Фотографический мир – это пространство застывшего времени: «На пути попадались здесь и там немые и недвижные фигуры людей» [9, с. 22]. 2. В нем нет цвета как на фотографиях того времени: «выцветший, но все ж телесный, призрак…» [9, с. 21]. 3. Предметы этого мира материальны, сохраняют все качества реальных предметов, сохраняется тепло тел, запах мест: «всюду был розлит знакомый характерный запах нижнего Эрмитажа» [9, с. 22]. 4. Фотографический мир больше изображенного на снимке зала Зевса Олимпийца: он представляет точную копию всего других залов Эрмитажа, всего Санкт-Петербурга, всего земного шара и, видимо, всей вселенной на момент снятия снимка 21 апреля 1877 года. Объективный же мир рассказчика принадлежит 1900-м годам ХХ века. Также наблюдаются странности: 5. Источником света бесконечного фотографического мира является керосиновая лампа, которая горит на столе в комнате рассказчика: «если бы Марья в самом деле загасила вчера лампу на столе; что стало бы со мною? Черный мрак разлился бы тогда по покоям, где я блуждал…» [9, с. 41]. При этом источник света и источник тепла не взаимосвязаны, тепло идет именно от скопированного солнца: «лучи давно минувшего солнца слабо, но заметно грели» [9, c. 48]. А так как скопирован стереоскопический мир в апреле, а в апреле 1877 года было холодно, на улице холоднее, чем внутри Эрмитажа, хотя если источник света (и, следовательно, тепла) – керосиновая лампа на столе рассказчика, то везде должна быть одинаковая температура. 6. Но все-таки главной странностью представляется момент перехода из действительности в ее фотографическую копию. Чтобы войти требуется приложить глаза к окулярам стереоскопа. Чтобы выйти – приложиться затылком «к трубкам», «поворачивая голову то вправо, то влево» [9, с. 37]. Наконец, 7. никак не вписывается в очерченную физику мира-копии падение старухи-статуи, и последующее приобретение ею и других застывших фигур способности двигаться.
Данное противоречие событий повествования фактуальности вымышленного мира можно списать на неопытность А.П. Иванова как писателя, не сумевшего выдержать «научную» линию фантастической повести в духе Уэллса. Например, написанная на пять лет раньше «Война миров» (1899) соединяет невероятное, атаку марсиан на Лондон, с дотошным естественно-научным ее описанием:
межпланетный перелет марсиан, их анатомия, непереносимость ими инфекций, возбуждаемых земными бактериями, и выдерживает баланс правдоподобия и фантастики до конца. А.П. Иванов явно не справляется с этой задачей.
Но, по нашему мнению, ход дискредитации Иванова как писателя был бы слишком легким и теоретически неплодотворным. Наш тезис заключается в том, что нарраториальная дотошность, внимание к фактуальности в повествовании, обрисовка технических деталей и латентных нюансов, связанных с аппаратом стереоскопа, при одновременном присутствии необъяснимого и мистического, нарушающего эту фактуальность, является отражением в сознании нарратора специфического для 1900-х годов комплекса представлений о фотографии как медиуме.
Мы можем выделить три главных особенности этого представления. Во-первых, историки фотографии в один голос обращают внимание на то, что вторая половина XIX – начало ХХ века связана с бурным развитием и техническим усовершенствованием фотографических аппаратов: дагерротипия, тальботи-пия, моментальный снимок «Кодак». О прямой связи технического изобретательства и фотографического искусства говорит и то, что мастера фотографии часто модифицировали фотоаппарат: метод сьемки на двух пластинах со слоями разной толщины, изобретенный Деньером, повлиял на пикториализм, знаменитый фотограф А.О. Карелин использовал «добавочные оптические линзы» [10, с. 22] и т.д. Фотографы-пикториалисты пользовались ретушью, особыми техниками проявления снимком, моноклем для снижения резкости фокуса. Собранная Е.В. Бархатовой библиография отечественных фотографических трудов свидетельствует о напряженном внимании современников именно к технической стороне данного явления [11]. Отсюда в «Стереоскопе» много специфически технических подробностей, одна из которых – упомянутый выше обязательный поворот головы рассказчика влево и вправо при упоре затылком в окуляры аппарата. Дело в том, что объем стереоскопического снимка создавался бинокулярной съемкой с двух объективов, расположенных на некотором расстоянии по горизонтали.
На техническую сторону вопроса накладывается ценностная дифференциация видов фотографии: более художественным считался менее резкий снимок, и напротив, наиболее детальная съемка использовалась в прикладных целях: для передачи ландшафтов, военной разведки, архитектурных сооружений, иностранных достопримечательностей, документов, картин, художники прибегали к портретным снимкам в своей работе, когда клиент не мог позировать или находился далеко. Именно поэтому на стеклянном «картридже» в повести запечатлено не что иное как зал Эрмитажа. Это нарочито не художественный снимок, и поэтому особо точный, имеющий интенцию к «фотографическому» запечатле-ванию прошедшей действительности, к ее копированию. Отсюда, из такого чисто технического понимания фотографии, следует «научная» манера повествователя, его детализация: хронотоп мира-копии – это экфрасис снимка, усиленный очерковой манерой. Не зря позже, З. Гиппиус назовет один из своих очерков «Парижские фотографии» (1907). Если мы в этом свете рассмотрим сюжет «Стереоскопа», то увидим, что в нем практически нет событийной интриги: интрига возвращения, лими-нальная интрига разрешается в конце первой части, интрига встречи рассказчика с прошлым собой побочна. Главной интригой является сам фотографический мир, его существование. Именно через такую ценностнотехническую схему восприятия проявляется принадлежность повести к специфическому виду чудесного рассказа, а именно, по Ц. Тодорову, к «орудийному чудесному», в котором сверхъестественное достигается через прибор, в описываемое время невозможный или обладающий невозможным эффектом, но который лежит в русле логики развития технологии [12, с. 49]. Так, мы, жители первой трети XXI века, узнаем в ивановском «Стереоскопе» шлем виртуальной реальности. С другой стороны, и что странно, повесть не относится к «научному чудесному», так как в сверхъестественное не «объясняется рациональным образом, но на основе законов, не признаваемых современной наукой» [12, c. 50]. Повествователь лишь описывает ощущения, но не предлагает гипотез.
В этом кроется третья, до последнего времени игнорируемая особенность восприятия фотографии, на которую, в частности, обращает внимание в своей пунктирно намеченной в ряде статей теории фотографии М.А. Волошин, а именно безжалостное обращение этого средства фиксации реальности со временем. Так, поэт-символист пишет: «настоящее безжалостно точно. Оно, как фотография, дает ненужные подробности. Время – художник. Оно стирает все ненужное и дает уравновешенную гармонию яркой пестроте красок» [13, с. 615.]. В стереоскопическом мире, рисуемом А.П. Ивановым, прошлые люди именно что запечатлены в вечном настоящем, это составляет главную неестественность мира, и одновременно причиняет замершим там копиям страдания: «мне чудилось, что все они что-то таят против меня и в тайне грустят о том, что прошло с ними без возврата» [9, c. 49]. Иными словами, речь о точной копии обличия, выдернутой из живого потока времени. Это созвучно с волошинов-ской теорией фонографа как фотографии голоса: «механическая запись обеспечивает бессмертие лишь голосу музыкальному и голосу драматическому. Интимный же голос по-прежнему ускользает, так как в лучшем случае его фонограмма может соответствовать случайной моментальной фотографии» [14, с. 105].
Но, конечно, более всего онтология и метафизика фотографии были раскрыты М.А. Волошиным в неопубликованной рецензии на «Стереоскоп». Поэт пишет: «Фотография запечатлевает мир призрачный и фантастический. Призрачный – бескрасочный, однотонный, плоскостно-тонный. Фантастический, – потому что она банальною скороговоркою говорит великие слова: «Остановись, мгновенье» – и время повинуется» [14, с. 248]. Здесь понятия «призрачный» и «фантастический», конечно, указывают и на дополнительный, без сомнения известный Волошину способ использования фотографии: для фиксации духов на медиумических сеансах. Исследователь русского спиритуалистического движения В.С. Раздъяконов пишет: «Некоторые спиритуалисты продолжали возлагать надежды на фотографию как средство подтверждения существования «оболочки души»… [15, с. 78], и далее: «С точки зрения Н.П. Вагнера, «когда человек находится в состоянии гипноза, его психическое я может отделиться и принять форму, которая, хотя и невидима для человеческого глаза, может быть сфотографирована»…» [15, с. 258]. То, что такое физическое понимание души было довольно распространено, подтверждает заголовок книги Р.Ю. Тиле 1892 года «Возможно ли получение в глазу убитого оптограммы убийцы?», иными словами, «возможно ли увидеть в глазу убитого прошлое, в котором запечатлен, как на фотографии, облик убитого». Действительно, такое мировоззрение с его устаревшими научными концепциями, становящимися общим фундаментом для физики и метафизике, эмпирической науки и мистики, созвучно миру, который обрисован в повести «Стереоскоп». Оно вполне объясняет, почему простая копия должна была испытывать злобу, меланхолию. Повествователь «Стереоскопа» спрашивает: «Не злоба ли минувших на то, что подсматривают за ними, что вторгаются к ним, наполняет жутью и стены, и потолок, и анфилады призрачных покоев» [9, с. 42].
Итак, мы выяснили, что повесть А.П. Иванова «Стереоскоп» как произведение второго ряда вбирает в себя многообразные клише эпохи: романтические – в контаминации мотивов ожившей картины и вхождения в картину, символистские – в стремлении к суггестии, элементы нарождающейся научной фантастики в детальном описании перехода и путешествия по фотографическому миру. Но вместе с этим она отражает стереотипы и представления, которые для современников казались самоочевидными, а для нас представляются драгоценным «снимком» нового аспекта символистской парадигмы: понимание фотографии в ее неразрывной связи с механикой фотографического процесса, функционалом аппарата, его ценностной нагру-женностью, в купе с мистически-научным представлением о возможности фотографии души, запечатления оболочки явления в остановившемся времени. «Стереоскоп» занял уникальное положение в литературном быте символизма, катализировав размышление о природе фотографического, если не у В.Я. Брюсова и А.А. Блока, отметивших первую триаду клише, то у М.А. Волошина, давшего на материале повести абрис возможной символистской теории фотографии.