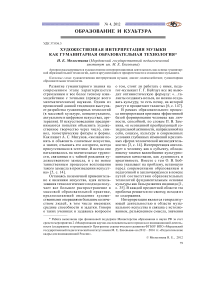Художественная интерпретация музыки как гуманитарная образовательная технология
Автор: Молоствова Ирина Евгеньевна
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Образование и культура
Статья в выпуске: 4 (69), 2012 года.
Бесплатный доступ
Автором рассматривается художественно-интерпретационная деятельность как основа гуманитарной образовательной технологии, дается аргументация ее приоритетности в становлении музыканта.
Художественная интерпретация музыки, диалог, взаимодействие, гуманитарная образовательная технология
Короткий адрес: https://sciup.org/147136909
IDR: 147136909 | УДК: 37.036.5
Текст научной статьи Художественная интерпретация музыки как гуманитарная образовательная технология
Развитие гуманитарного знания на современном этапе характеризуется стремлением к все более тесному взаимодействию с точными (прежде всего математическими) науками. Одним из проявлений данной тенденции выступает разработка гуманитарных технологий (в массовой культуре, концептуальном, актуальном и цифровом искусствах, арт-терапии). В искусствоведении предпринимаются попытки объяснить художественное творчество через число, символ, геометрические фигуры и формы. Как пишет А. С. Мигунов, «желание понять и объяснить слагаемые искусства, а значит, отыскать его алгоритм, всегда присутствовало в эстетике. И всегда оно наталкивалось на значительные трудности, связанные и с тайной рождения художественного замысла, и с не менее таинственным процессом воплощения такого замысла в произведении искусства» [5, с. 14].
Оставаясь полемичной применительно к явлениям искусства, идея использования технологического подхода получает все большее распространение в массовой образовательной практике, предполагающей овладение художественными операциями большим количеством людей, в том числе имеющих средние способности и задатки. Говоря о таких учениках и задаваясь вопросом о том, стоит ли работать с ними, педагог-музыкант Г. Г. Нейгауз все же выводит оптимистическую формулу: «^таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на которой растут и процветают таланты» [6, с. 147].
В рамках образовательного процесса интерпретация признана эффективной базой формирования человека как личности, способной, по словам П. В. Зам-кина, «к осознанной преобразующей созидательной активности, направленной на себя, социум, культуру в современных условиях глубинных изменений в различных сферах человеческой жизнедеятельности» [3, с. 14]. Интерпретация апеллирует к человеку как к субъекту, обладающему такими важнейшими культурноценными качествами, как духовность и креативность. Вместе с тем О. В. Бобкова указывает на проблему, встающую перед современными образованием и педагогикой и заключающуюся в поиске путей соответствия образовательных технологий фундаментальным основам культуры как базы развития индивида [1, с. 35]. В каждой предметной области эта проблема решается по-своему, исходя из ее содержания.
Интерпретация является генерализующей деятельностью в области музыкального искусства и связана с истолкованием, разъяснением смысла, значения его явлений. Она способствует органичному взаимодействию исполнительской, аналитико-синтезирующей деятельности и индивидуального творчески-созида-тельного начала личности. Будучи художественным способом познания, интерпретация по сравнению с другими видами учебной деятельности в большей мере актуализирует процессы творческого мышления и восприятия музыки. При этом постижение связывается с преобразованием человеком художественной информации на основе переработанных и переплавленных собственных переживаний и раздумий, его личного опыта. Не случайно для русской пианистической школы ключевой традицией стало побуждение учеников к напряженным творческим поискам собственных понимания и трактовки произведения.
Ведущие педагоги-музыканты главнейшей целью своих занятий считали становление музыканта, способного к глубокому постижению музыки. По мнению ученицы С. И. Савшинского А. Шнитке, самое главное в его педагогической деятельности заключалось «в развитии музыкального мышления ученика в самом широком и полном смысле этого понятия. Раскрывая перед молодыми пианистами горизонты исполнительского творчества, он делал очевидной глубинную познаваемость музыки. Он открывал перед нами бесконечность и невероятную увлекательность самого процесса исполнительского познания музыки, его обжигающую силу, которая становилась (разумеется, лишь для желавших что-то постичь) факелом, освещавшим всю профессиональную жизнь. Сав-шинский был наделен редким даром учить важнейшему — методологии, методике и технологии художественного поиска. Он вооружал учеников не „от-мычками“ к исполнению (хотя ими мы тоже оказались щедро оснащены), а ключами к познанию музыки. Он показывал, где и как искать верное художественное решение, находить же его — было нашей задачей и нашим уделом» (курсив наш. — И. М.» [7, с. 237—238]. О том же свидетельствуют слова И. Гофмана, посвященные А. Г. Рубинштейну: «Ру бинштейн избрал метод косвенного наставления посредством наводящих сравнений и только в редких случаях касался музыкальных вопросов в строгом смысле этого слова. Таким путем он стремился пробудить во мне конкретно-музыкальное чутье как параллель к его обобщениям и тем самым оберечь мою музыкальную индивидуальность. Рубинштейн никогда не играл мне. Он только говорил, и я, поняв его мысль, переводил ее на язык музыки и музыкального исполнения» [2, с. 68—69].
Однако такой путь освоения произведения дает безусловный эффект при работе с сильными учениками, которые, как правило, обладают развитой художественной интуицией, с одной стороны, и большим исполнительским, а также достаточным музыкальным и общехудожественным опытом — с другой. Следует сказать, что к выработке «сюжета» музыки или применению конкретных образных сравнений многие педагоги-музыканты относятся с большой долей скептицизма и даже отрицают его це-несообразность, хотя эти методы и сохраняют свою действенность. Так, Г. Г. Ней-гауз по этому поводу писал: «... случалось, что лишенному творческой инициативы ученику я изо всех сил старался раскрыть всю подноготную произведения, сообщал ему до последних тонкостей все, что я сам пережил и передумал по поводу данного сочинения, — в итоге получалась иногда очень недурная копия моей интерпретации» [6, с. 152].
К сожалению, путь, который приводил к данному итогу, автором не описан. Отсутствует его описание и у других педагогов-музыкантов. Видимо, такая работа предназначена «для личного пользования», для осуществления индивидуальной (в каждом отдельном случае — различной) деятельности по выработке концепции произведения. Вместе с тем мы считаем, что при всей уникальности этого процесса можно и нужно найти общие подходы к осуществлению такой деятельности, что позволило бы на технологическом уровне овладевать ею большинством обучающихся музыке.
Путь художественной интерпретации музыки виден отчетливо лишь на начальном этапе работы над произведением (он опосредован описанными в научной литературе законами музыкального восприятия и музыковедческого анализа текста), а также на этапе поиска необходимых исполнительских средств. В целом изучение методической литературы показывает, что в описании художественно-интерпретационной деятельности остается «белое пятно» между анализом текста и его исполнительским воплощением. Оно связано с вербальной формой выражения содержания, заложенного в музыкальном произведении. За пределами видения остаются характер «вопрошания» к тексту, полученные от него «ответы», переведенные из звуковой формы в словесную. Поэтому интерпретация характеризуется чаще всего как результат осмысления музыки и составления концепции, а не как деятельность — процесс, включающий несколько этапов.
Если затруднительно полноценно разработать технологию художественной интерпретации как творческой деятельности, характеризующейся большой долей непредсказуемости, то ее реализация в музыкально-образовательном процессе вполне возможна при опоре на теорию взаимодействия педагога и учащегося. Свидетельство тому — данная Т. В. Татьяниной и Т. И. Шукшиной характеристика гуманитарных технологий как разновидности социальных технологий, которые находят выражение в педагогически оправданном, щадящем влиянии на личность обучающегося, создании условий для выстраивания диалоговых отношений участников педагогического процесса [8, с. 74]. Музыкально-образовательный процесс обладает определенной спецификой, связанной с тем, что он предполагает не простое усвоение знаний и способов деятельности, но вхождение в мир музыкальной культуры, а значит, базируется прежде всего на постижении культурных смыслов, содержащихся в явлениях музыкального искусства, на основе культуросообразной деятельности. При этом важно установле ние музыкально-интерпретационного сотруднического взаимодействия педагога и учащегося. Как говорил Г. Г. Нейгауз, «...полное взаимопонимание учителя и ученика — одно из важных условий плодотворности педагогического процесса» [6, с. 164]. Следовательно, в рамках образовательного процесса и педагог, и учащийся встают перед необходимостью вербализации художественной информации с целью обмена ею.
В рассмотрении художественно-интерпретационной деятельности как технологии учет фактора педагогического взаимодействия выражается, во-первых, в необходимости движения и педагога, и учащегося навстречу друг другу — к художественному взаимопониманию относительно изучаемого музыкального явления, и, во-вторых, в совместном создании трактовки музыкального произведения через постижение личностного опыта Другого. Тогда, по словам Г. Г. Нейгауза, «педагог превращается из „учителя“ в узком смысле слова в старшего коллегу, оснащенного б о льшим опытом и б о льшими знаниями, беседующего с младшими собратьями по искусству на любимые темы. Именно эта сторона педагогики — самая ее привлекательная, самая захватывающая и отрадная сторона. Не только потому, что здесь профессиональная педагогика становится понемногу настоящим воспитанием, но главным образом оттого, что это чистая форма общения и сближения людей на основе общей преданности искусству и способности что-то создавать в искусстве» [6, с. 151].
Художественно-интерпретационное взаимодействие с позиций технологичности предстает в виде процесса, включающего в себя несколько этапов.
На первом этапе работы с произведением каждый участник музыкальнообразовательного процесса (педагог и ученик) погружается в художественнообразный мир творения композитора самостоятельно, чтобы ничто не могло повлиять на первые более или менее целостные выводы о музыке и постановку собственных творческих задач. По- скольку речь идет об образовательном процессе, где взаимодействие педагога и учащегося обязательно, то просто необходимо, чтобы каждый из них готовился к встрече, «имея, что сказать». Только в этом случае происходит равноправный художественный диалог, для осуществления которого оба индивида создают словесный эквивалент образа музыкального произведения. Содержание первого этапа, по своей функции являющегося предкоммуникативным, подготовительным к непосредственному педагогическому контакту, включает в себя три подэтапа:
1-й подэтап — работа с музыкальным текстом. Осуществляется самостоятельное общение каждого субъекта (и педагога, и учащегося) с музыкальным произведением с целью получения максимально возможной художественной информации;
2-й подэтап — становление собственного (более или менее обобщенного, целостного) представления о содержании музыкального текста . В результате действий, совершившихся на первом подэтапе, каждый индивид получает собственное представление о музыкальном произведении, создает его субъективный образ;
3-й подэтап — создание по возможности адекватной музыкальному произведению словесной трактовки . В условиях образовательного процесса ведущей формой передачи знаний является общение, а значит, необходимо создание словесного образа музыкального произведения, по возможности максимально эквивалентного созданному субъективному представлению. Именно здесь вступает в силу качество «воли к диалогу», так как субъект пытается сформулировать познанное им художественное сообщение в виде доступной для восприятия конкретного Другого формы высказывания. Цель формулирования при этом — быть максимально понятным .
Второй этап — центральный; это ситуация непосредственного диалога педагога и учащегося. Здесь происходит обмен полученными на предыдущем эта пе знаниями, где вербальная форма взаимодействия находится на равных позициях с музыкально-исполнительской. Цель данного этапа — не простое ознакомление с художественной концепцией Другого, а нахождение общей идеи интерпретации, которая совместно обсуждается. Кроме этого, вербальное выражение музыкального содержания обогащается экспрессивными невербальными факторами, всегда сопровождающими глубокое человеческое взаимодействие, — мимикой, жестами. Они проявляют эмоционально-чувственное восприятие музыки, а подчас и неосознаваемые переживания. Данный этап также включает в себя подэтапы:
4-й подэтап — в момент непосредственного учебного взаимодействия передача Другому собственного представления о музыкальном произведении в словесной форме. Здесь идет вербальная реализация содержания музыкального произведения в учебной аудитории. «Воля к диалогу» воплощается в желании быть понятым, т. е. в стремлении удержать контакт, мгновенно реагируя на любые изменения в восприятии информации Другим, с целью максимально полного информирования собеседника о сделанных художественных выводах;
5-й подэтап — осуществление обратной связи. Если 3-й подэтап был периодом подготовки к диалогу, 4-й — действием, побуждающим к диалогическому взаимодействию, и если указанные ступени были пройдены успешно каждым субъектом, возможен позитивный обмен постигнутыми смыслами художественного мира произведения. При этом оба субъекта выступают как равноправные участники музыкально-образовательного процесса, как сотрудники.
В результате осуществленного диалога понимание музыкального произведения обогащается всеми постигнутыми смыслами на этапах пройденного каждым субъектом пути художественного познания и оба участника выходят на третий этап — результирующий, этап формулирования общей рабочей концепции и постановки новых художественно- интерпретационных задач, которые затем вновь осмысливаются каждым самостоятельно (см. первый этап). Таким образом, только при личностном художественно-информационном обмене процесс познания выходит на следующий цикл, возвращаясь к его источнику — музыкальному произведению. Затем вновь начинается путь навстречу Другому с новыми знаниями, более глубоким пониманием произведения — путь приближения к истине и возможному ее открытию.
В итоге получается спиралевидное развитие художественного познания, осуществляемого в интерактивной форме учебно-педагогического взаимодействия. По своим характеристикам оно удовлетворяет условиям понимания, выделенным В. В. Знаковым [4, с. 159— 165]:
-
1) мнемическому — у партнеров должны быть и, главное, актуализироваться в момент общения не любые знания об обсуждаемом предмете, а именно сходные, пересекающиеся запасы сведений, похожие модели объекта;
-
2) целевому — в совместной деятельности каждый ее участник вынужден делать прогнозы, относящиеся как к предмету деятельности, так и к психологическим качествам, а также ценностно-смысловым позициям партнеров;
-
3) эмпатическому — осуществляется активное оценивание субъектом переживаний и чувств познающего человека, формируется положительное отношение к нему;
-
4) нормативному — для достижения взаимопонимания субъекты общения должны исходить из одних и тех же постулатов общения и соотносить предмет обсуждения с одинаковыми социальными образцами, нормами поведения.
Таким образом, в результате применения в музыкальном образовании художественной интерпретации у учащихся формируются навыки гуманитарного мышления, которое диалогично по своей природе. В этом процессе субъекты об- щения не просто обмениваются предметной информацией — осуществляется взаимопроникновение их позиций, интересов, нравственных ценностей, сопряжение разных культурных смыслов, которые проходят определенную коррекцию. Используемая в музыкально-образовательном процессе интерпретационная деятельность обусловливает личностное развитие учащегося, активизацию мировоззренческого начала, его постепенное, непротиворечивое вхождение в большой мир как значимой единицы человеческого общества. Это делает художественную интерпретацию музыки гуманитарной образовательной технологией, которая к тому же дает возможность принципиально индивидуального ориентирования учебной деятельности, обеспечивающей свободу выбора субъектом рефлексивно осмысленного вектора собственного развития.