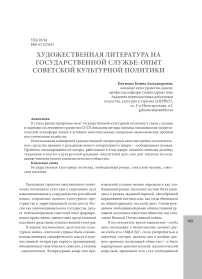Художественная литература на государственной службе: опыт советской культурной политики
Автор: Цветкова Галина Александровна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Современные исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье реконструирован опыт государственной культурной политики в связи с целями и задачами послевоенного развития СССР, показаны методы подъема эмоционально-психологической атмосферы жизни в условиях многочисленных социально-экономических проблем восстановления хозяйства. Использование компартией художественной литературы в качестве идейно-воспитательного средства привело к рождению нового литературного жанра - злободневного романа. Проблему ангажированности авторы, работавшие в этом жанре, снимали, понимая дилемму «художник и власть» в духе русской традиции «властителей дум», как долг писателя по созиданию человека нового социалистического общества.
Государственная культурная политика, злободневный роман, советские писатели, советский человек
Короткий адрес: https://sciup.org/170174114
IDR: 170174114 | УДК: 93/94
Текст научной статьи Художественная литература на государственной службе: опыт советской культурной политики
Реализация стратегии максимального вовлечения потенциала культуры в укрепление духа взаимопонимания и сотрудничества российской нации, сохранение единого культурного пространства и территориальной целостности России как многонационального государства, делает небезынтересным советский опыт формирования нравственно-ценностных представлений населения средствами художественной культуры.
В первое послевоенное десятилетие культурная жизнь советской страны была ознаменована явлением специфического пласта в художественной литературе, корпуса произведений, объединенных тематически и сюжетно, а главное - идеологически. Литературный жанр этих про- изведений условно можно определить как злободневный роман, поскольку все они были написаны в рамках заданной партией своеобразной нормативной поэтики, или, как тогда обозначали их общий принцип, «на злобу дня». Своим рождением злободневный роман обязан сложной духовной ситуации в советском обществе, как следствию Великой Отечественной войны.
В послевоенное время выражение «злоба дня», восходящее к евангельскому «довлеет дне-ви злоба его» (Мф 6:34)¹, стало употребляться в значении «интерес данного дня и вообще данного времени, волнующий общество»², и было маркировано дополнительной, идеологической нагрузкой, проекцией чего стал злободневный роман. В художественных произведениях стали разрабатывать «современную» тему, создавать образ «нашего современника», а по сути, заново ставить вопрос о «советском человеке» и перспективах строительства социалистического общества. В этих вопросах были осознаны актуальные проблемы жизни советского общества, которые требовали неотложного решения.
В мирной жизни советских людей в сравнении с довоенным периодом произошло смещение приоритетов в системе жизненных ценностей в сторону приватизации жизни, обнаружились тенденции к погружению в частные интересы. Этот сдвиг сопровождался изменением представлений о качественном наполнении повседневности, усилением ориентации, как тогда говорили, на личный потребительский вкус, раскрепощенный эйфорией завершения войны, измененный опытом заграничного похода, контактом с западной бытовой культурой. Новые потребительские тенденции были несовместимы с насущными государственными задачами. Интенсифицируемое «холодной войной» противостояние экономических систем идеологических врагов определяло приоритет укрепления военно-экономической мощи, реконструкции тяжелой промышленности. Эти государственные интересы требовали от людей нового напряжения физических и моральных сил. Советские люди потенциально были готовы к самопожертвованию, к героическому труду по восстановлению своей страны, но их нетерпеливые ожидания были связаны с незамысловатыми радостями мирной жизни, желанием «отогреться у домашнего очага»³.
Стихийно шёл поиск адекватных переживаемым состояниям форм реализации завоеванного дорогой ценой мира. Открывались каналы психологической разгрузки известными сильно-
¹«Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» Мф 6:33-34
²Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. М.,1987. С.131. Представленное в словаре «Крылатые слова» толкование выражения «злоба дня» не передает полного смысла евангельского высказывания, а отражает его смысл в контексте советской культуры.
³Закавыченные слова и выражения без специальной ссылки взяты из текстов партийных постановлений и художественных произведений исследуемого периода.
действующими художественными средствами, дававшими быстрый эффект. Сфера искусства активизировала свою рекреационную функцию. Состояния расслабления, снятие напряжения стали создавать через «эфир» популярными произведениями лирического и развлекательного характера, «лёгкого» эстрадного жанра, имевшими, в том числе, трофейное происхождение. Эта «развлекательная» активность деятелей искусства попала в поле зрения партийных органов, которые сочли её не безобидной, констатируя, что «эфир засорен безыдейными, пошлыми песенками и эстрадно-танцевальными номерами дурного пошиба». Репертуар, транслируемый на массовую аудиторию, был квалифицирован как «дрянные изделия заграничных поставщиков эстрадной порнографии», а увлечение кружащими голову «песенками и танцами», ритмами импортных «блюзов, фоксов, бостонов», как, впрочем, и «кабацкой меланхолией» лирики отечественных авторов4, было оценено как занятие «недостойное и несвойственное советским людям». Безусловно, атмосфера «лёгкого», но минорного веселья диссонировала с мажорной тональностью должного поведения советского человека, которого партия видела «бодрым», «жизнерадостным», «не боящемся препятствий», «верящем в победу нашего дела», «способным преодолевать любые трудности»5. Зафиксировав интерес населения к тем формам досуга, которые были, по сути, чистым «развлечением», без идейной нагрузки, партия персонифицировала проблему в деятелях искусства, потакавших досужему времяпрепровождению. Их деятельность была признана не просто ошибочной, деятелей искусства заподозрили в узурпации права формировать мировосприятие советских людей, причем, отличное от партийных установок. Эта претензия была небезосновательной, если исходить из воспитательной роли, которую, как главную, отводила искусству советская идеологическая система. И если сами деятели искусства едва ли сознавали факт своей «подрывной» работы,
4Так клеймили песни на стихи А. Фатьянова («Три года ты мне снилась», «Давно мы дома не были», «Соловьи», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?»).
просто развлекая население, то партия, осознавая опасность «неразборчивого» потребления искусства, за этим легкомыслием уловила отчетливо угрозу бесконтрольных, латентных процессов на уровне частной жизни, сбой в идейно-воспитательном процессе. Видимо, поэтому уже в 1946 г., в комплексе задач восстановительного периода, среди приоритетов партийного надзора возникла сфера культуры.
Сфера творческой деятельности стала предметом пристального внимания партии и государства. ЦК партии была развернута идеологическая кампания по вопросам науки и художественного творчества6, в ходе которой были проведены публичные обсуждения выявленных недостатков, приняты репрессивные меры, созданы специальные институты для поддержания должного идеологического тонуса общественного сознания7. Партия попыталась направить настроения масс в русло созидательного пафоса, призывала использовать эмоциональные силы для самообразования, духовного развития, уводя помыслы населения от опасных идеологических и нравственных границ. В связи с этим акцент делался на значении «духа» человека, который помогает превозмогать физические недуги и дает силы для новых свершений. Одновременно стал интенсивно продвигаться как идеологема нового этапа социалистического строительства, сформулированный Сталиным императив: «Народ-победитель вправе желать, чтобы его жизнь была красивой и радостной»8. Стало очевидно, государство не могло бесконечно игнорировать повседневную сторону жизни людей, оправдывать её скудость и дефицитность последствиями войны, вынужденн ым временным ха рактером трудностей и
6В частности, в 1946-1948 гг. были приняты Постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О кинофильме «Большая жизнь», «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели». А.А.Жданов выступил с докладом о постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»; проведено Всесоюзное совещание работников искусства и художественной интеллигенции, посвященное постановлению ЦК ВКП(б) «О кинофильме «Большая жизнь».
7В 1946 г. стала издаваться газета «Культура и жизнь», созданы Академия общественных наук при ЦК партии, Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма и др.
8Культурно-просветительная работа. 1945.№ 1(9).С.6.
призывать их ещё потерпеть неудобства. Существовал, усиленный влиянием эмоциональных впечатлений от привлекательной новизны и комфорта западной культуры, риск утраты веры людей в реализацию социализма, логику его «крутого подъема», «неуклонного роста» материальных благ. Реальной становилась возможность разочарования в советских идеалах. Государственная прагматика требовала разворота к интересам населения, изыскания ресурсов управления «потребительскими вкусами». Власть, полагая в конце войны, что находилась перед дилеммой обустройства повседневной хозяйственной жизни людей и создания военно-стратегического щита перед угрозой третьей мировой войны, т.е. проблемой материальных средств, теперь осознавала, что стоит перед принципиальной, «жизни и смерти» советского государства проблемой «советского человека», как главной опоры советской власти и чрезвычайной задачей конкретно-практической реализации социализма как удовлетворения материальных благ.
Обнаруженная проблема выдвигала необходимость моделирования жизненных практик, в которых бы сочетались главные «атрибуты» социализма, довоенный «опыт» жизни аскета -строителя коммунизма и условия «материального изобилия». Нужно было создать образчик жизни в обстоятельствах нового этапа строительства социализма, в ходе которого, по утверждению Сталина, жизнь людей станет «богатой, красивой, радостной». Эта модель должна была формально-практически объединить обещанные революцией материально-вещественные блага и заданные идеологией духовно-нравственные качества советского человека. Задача формирования социального поведения советского человека в условиях материального благоденствия не могла быть решена только партийными постановлениями, власть воспользовалась средством, признанным ею самым эффективным. Партия призвала художественную литературу, инструментальность которой была предусмотрена в процессе культурной революции высоким, государственно организованным статусом чтения.
Возлагая надежды на художественную литературу, партия следовала традиции русской культуры, отводившей особое место «властителя дум» литературе, которая брала на себя не только художественную, эстетическую, но и мировоззренческую, моральную, социальную функции. Благоприятным для включения литературы как механизма продвижения версии социалистического образа жизни было успешное формирование советского человека как человека «читающего». В довоенный период с воспитательными целями были задействованы, прежде всего, виды искусства, которые создавали художественно-образные формы доступные малограмотному населению, например, кино, массовые театральные действа, воспитывавшие население в ходе создания пространственно-эмоциональной среды9.
В послевоенное время с распространением грамотности и утверждения культа книги происходит смещение доминанты в художественных средствах. В центре оказывается художественная литература, чтение которой становилось признаком культурности, престижного социального статуса. Чтение книг соответственно никак не относилось к развлечению. Оно было возведено исключительно в «метод работы над собой». Но следование настойчивому совету «Дружите с книгой!» предупреждалось опасностью беспорядочного их чтения, «чтения без разбора». В послевоенный период разрабатывались рекомендательные списки книг, «обогащавших человека и дававших новые стимулы идти вперед», предписывалось «читать классиков, а также книги типа «Молодая гвардия», «Сын полка»10. Газеты систематически анонсировали, что «выпущены новые книги о юноше твердой воли, роман о боевой дружбе, о девушке из смоленских лесов, о людях героического труда» и т.п. Чтение книг воспринималась и властью, и населением не столько как процесс личного самосовершенствования, сколько как форма проявления социальной активности.
Противостояние средствами литературы ненормативному, с точки зрения партии, образу мирной жизни составило главную «злобу дня» художественной интеллигенции, заявившей готовность исполнить свой долг духовного лидер-
9Clark K. Petersburg, Crucible of Cultural Revolution. L., 1995
ства, как «гражданский, патриотический, партийный долг творческой интеллигенции – вдохновлять трудящихся советского общества на великие дела в труде, науке и культуре»11.
На писателей была возложена задача невероятной сложности. Требовалось как «современность» смоделировать, по сути, социалистическое будущее, описать феномен, который был не явлен в послевоенной действительности, присутствовал в виде ожиданий, утвердить как повседневность, то, что проявлялось как героизм жизни.
В соответствии с партийными решениями и постановлениями по вопросам художественного творчества, прочитываемыми писателями как нормативная поэтика, разрабатывались художественные принципы злободневной литературы. Естественно проявившийся схематизм определял только два императивных плана художественной репрезентации советского социума. Во-первых, «новый», а, во-вторых, «правильный»12. Писателям вручалась небывалая ответственность созидания бытовых форм «нового» и «правильного» содержания жизни, идейно-смыслового предвосхищения светлого будущего, построения первообразов, явленных исключительно интуицией их партийной совести. Мастера жанра следовали главному источнику «нормативной поэтики» - партийным постановлениям, где «правильное» и «неправильное», «новое» и «старое», достигая полной наглядности и смысловой доступности, представлялось известными сюжетами и персонажами. Например, положительный тип - «Иван Грозный и его опричное войско» и отрицательный - «Гамлет»13. Призванные писатели, глашатаи «современности», творческий поиск «нового» видели как чрезвычайный по непредсказуемости рейд «путешественника», «открывателя новой земли», который «заполняет белые пятна на карте человеческой души», шагая по ещё «не обжитой земле»14. Аналогичной по экстремаль- ности предприятия была и реализация принципа «правильного», где «правильно написать о жизни» раскрывалось как «хорошо знать жизнь» и могло быть лишь апофатическим представлением будущего, сконструированного отрицанием прошлого. Включались как «метод» писательские интуиции «правильно почувствовать» жизнь в оппозициях «главное и второстепенное», «передовое и отсталое», «то, что движет жизнь вперед, и то, что тянет и тащит её назад»15. Этими средствами нужно было художественно представить «новые принципы общества, новые критерии при оценке людей, новое понимание общественного и личного долга, новая мораль, новое отношение к деньгам, к благам жизни, к достоинству человека: новое понимание задачи и жизни каждого отдельного человека и новые конфликты, не совпадающие со священными многосотлетними традициями всей прежде существовавшей лите-ратуры»16.
Ещё одна группа принципов литературного творчества была образована из государственного культа книги в советской стране. Эстетическим основанием злободневного романа провозглашается «общедоступность» литературы, поскольку «книга, адресованная всему нашему обществу и в принципе, в идеале может быть прочитана всем этим обществом»17. Исходные критерии творчества определяются «народностью и массовостью» чтения, т.е. запросом массовой аудитории, уровень восприятия которой после войны измерялся идейной однородностью «монолитного блока коммунистов и беспартийных», внутренне двучастно структурированного на «авангард» и «тылы», теоретически установленной партией новой социально-классовой стратификации. Критерием оценки художественной литературы становится мера исполнения писательского долга, выраженного в виде партийного запроса: «насколько активно вторгается произведение в наше общественное бытие? Насколько велико его об-щественно-преобразующее значение, как помогает оно формированию коммунистического со- знания?»18. Писательское дело становилось производством текстов, «интересных» очерченному партией кругу читательской аудитории, «правильный» запрос которой формулировали также сами писатели: «Правильно ли это произведение? Правильно ли изображена в нем жизнь? Интересно ли это? Интересно ли изображена жизнь? Хорошо ли это?»19.
Теоретический подход к литературному творчеству подвергся художественной обработке в «классическом», «освященном» Сталинской премией образце «нормативной поэтики», в повести Ю.Трифонова «Студенты», где получил доступную форму простого руководства процессом чтения как включением читателя в партийный дискурс. Автор создал художественную тему советского книгофильства, «правильного» запроса к литературе. Инструктивная природа социально миссионерского подхода к художественной литературе в повести Ю.Трифонова заложена сюжет-но в споре отрицательного персонажа, носителя «старого» отношения к литературе, профессора Козельского и положительного героя, аккумулировавшего «новое», студента Лагоденко, прошедшего три года войны, бывшего командира торпедного катера.
Высокий статус чтения как признак высокой элитарной культуры, персонифицированной в интеллигенте Козельском, в советском варианте предполагает разрыв с её «несовременными» толкователями и преодоление её самой в процессе чтения как средства «революционного» освоения мира, выдвижением на первый план «мнения современника», основанного на его «новом» и «правильном» мировоззрении человека из социализма, советского читателя. Ю.Трифонов конструирует должную процессу чтения атмосферу. Она проникнута пафосом созидания, эмоциональным подъемом акта открытия, радостная, поскольку сопровождается «интересной» работой ума в сравнение с унылой рутиной ученического освоения «библиографии и критики». Студентов делает «современниками», людьми новой эры, эры социализма, не их физическая молодость, а имманентное новому человеческому типу свойство непрестанной работы духа, инструментом которой становится чтение «нашей литературы», «самостоятельное мнение». Чтение романов, этот актуальный диалог с единомышленниками, героями «новых советских книг», полагалось настойчивым освоением идей социального прогресса («постараться понять, что в них хорошо, что плохо») всем миром читающих, обеспеченным совокупностью литературы, по сути, одним непрерывным текстом, разные произведения которого интерпретировали злободневность в рамках жанра и не выпускали читателя из общего интерактивного поля, где уровень беседы задавали рамки «нормативной поэтики» художественного вымысла. Так, герои повести Ю.Трифонова в поисках новых смыслов отсылают читателя к произведениям В. Пановой, знаковому имени «новой» советской литературы, и для читателя актуальный разговор не прерывается с финалом повести Ю.Трифонова.
Злободневный роман позволял читателю идентифицировать себя с героями произведения, погружая в атмосферу «будней и трудового подъема» обсуждением назревших проблем в должной постановке о результатах целенаправленного социалистического строительства - «дне сегодняшнем» и достойных «дня завтрашнего». Художественное произведение, выполненное в жанре злободневного романа, было предопределено содержательно. Художники, работавшие в этом жанре, не вольны были ни выбирать проблему, ни определять её как актуальную, ни тем более предлагать вольную трактовку этой проблемы, жестко следуя праву партийной воли.
По «заданным», нормативным образцам литература должна была «созидать» образ «современника», положительного героя, соединив в художественном образе чаяния людей и «дух эпохи», действующего в ситуации «обязательной темы», например, превращения отстающего хозяйства в передовое, образцовое под руководством партии. В основе фабулы, как правило, лежал производственный конфликт, который решался как нравственное противостояние людей с разными принципами. Необходимо было показать качества, которые присущи «современнику», под которым подразумевался передовой советский человек и обозначить перспективу его роста. Художественные произведения обяза- ны были «способствовать» созданию стереотипа «лучших сторон характера советского человека» и при этом «показывать, что эти качества свойственны не отдельным, избранным людям, героям, но многим миллионам советских людей»20.
В связи с разработкой этого направления в искусстве провозглашалось рождение «авторов нового, социалистического типа»21, произведения которых выделялись своим происхождением не «кабинетным» путем, герои и проблемы «брались» ими из повседневной жизни, следовательно, были не произвольным вымыслом. Партийное понятие «современная тема» предполагало концентрацию искусства на динамике потребностей послевоенной жизни: «схватывать на лету» «основные живые потребности своего времени в их существенном, принципиальном выражении», что должно было волновать широкую читательскую аудиторию, утверждать близость искусства и жизни. Соответственно, творческие искания художников должны были осуществляться непосредственно на производстве, что многие авторы и делали. Художники, «живо воспринявшие призыв изучать реальную действительность, теснее и чаще соприкасаться с жизнью, не ограничивать свои впечатления замкнутым кругом узко профессиональных интересов и привычного бытового уклада» побывали «на новостройках Юга и Севера, на восстанавливаемых гигантах советского Запада, в шахтах и на заводах Донбасса, Урала, Сибири, национальных республик, в колхозах, в совхозах»22.
1947 год был отмечен советской критикой, как «поворотный», когда в советском искусстве произошел поворот к темам «современности», а героем художественных произведений стал «наш современник – активный строитель коммунизма, советский патриот, человек большого интеллекта, высокой гражданской морали»23.
Разработка жанра злободневного романа по законам «нормативной поэтики» привела к тому, что в произведениях были сплошь положительные герои, а развитие характера шло «от хорошего к лучшему». Уже тогда писатели иронизировали, что в их произведениях разворачивается «конфликт хорошего с отличным». Но высокомерно скептическое отношение к злободневному роману, квалифицированного литературным суррогатом24 не должно заслонять осмысление его функциональности в советской культуре. Злободневный роман вполне оправдал ожидания «заказчика», эффективно ответив «на высокие культурные запросы советских людей» увлекательными позитивными интерпретациями повседневности, поддерживая надежды людей обращением коммунального сегодня в коммунистическое завтра. Партийные «отцы» злободневного романа тогда успешно организовали заслон «легкомысленному веселью», принудив страну читать «правильную» литературу. Правда, сами они, при этом не смогли «прочитать» в злободневном романе адресованный им, прежде всего, «месседж». Писатели, вдохновляясь миссией первооткрывателей новой человеческой реальности, созиданием образов «богатой, красивой, радостной» жизни, исходя из «хорошего знания» послевоенной действительности, попадали в зону неосознанных обмолвок и оговорок, непроизвольно проговариваясь в своих романах о стойкой привлекательности «пережитков» буржуазного достатка, о временном эффекте литературно созданного идеологического благоденствия в советском обществе и грядущем коллапсе советской идиллии.
Список литературы Художественная литература на государственной службе: опыт советской культурной политики
- Культурная жизнь в СССР: 1941-1950. Хроника. М.,1977.
- Общегородское собрание писателей посвященное докладу секретаря ЦК ВКП(б) А.А.Жданова «О постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград».//Правда.-1946.-22 августа.
- Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград».//Правда.-1946.-21 августа.
- Постановление ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению».// Культура и жизнь.-1946.-30 августа.
- Постановление ЦК ВКП(б) «О кинофильме «Большая жизнь» (2серия)».//Культура и жизнь.-1946.-10 сентября.
- Постановление ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» В.Мурадели».//Правда.-1948.-11 февраля.
- Из истории партийно-государственного руководства культурным строительством в СССР. М., 1983.
- Культурная революция в СССР. 1917-1965. М., 1967.
- Лукин Ю. А. Идеология и художественная культура. М., 1982.
- Симонов К. Заметки писателя. //Новый мир. 1947.№1. С.157-173.
- Brown, Edward J. Trifonov: The Historian as Artist. - Soviet Sosiety & Culture. Westview Press. 1988.
- Clark, Katerin. Petersburg: Crucible of Cultural Revolution. London, 1995.
- Dunham, Vera S. In Stalin's Time. Middleclass values in Soviet Fiction. - Cambridge University Press, 1976.
- Fitzpatric, Sheila. "Middle-class Values" and Soviet Life in the 1930s/ Soviet Society & Culture. Westview Press. 1988.