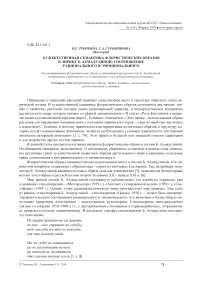Художественная семантика флористических образов в лирике Б. Ахмадулиной: соотношение рационального и эмоционального
Автор: Тропкина Надежда Евгеньевна, Сурьянинова Ульяна Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (54), 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются флористические образы в стихотворениях разных лет Б. Ахмадулиной, соотношение рационального и эмоционального в их художественной семантике.
Флористические образы, лирика, поэтика, эмоциональное, художественная семантика
Короткий адрес: https://sciup.org/14822665
IDR: 14822665 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Художественная семантика флористических образов в лирике Б. Ахмадулиной: соотношение рационального и эмоционального
Обращение к символике растений занимает существенное место в структуре образного строя лирической поэзии. В художественной семантике флористических образов сочетаются два начала: знание о свойствах растений, которое имеет рациональный характер, и непосредственное восприятие растительного мира, которое связано со сферой эмоционального. В статье «Роль фитонимов в репрезентации художественной картины мира С. Есенина» отмечается: «Этот прием – использование образа растения для выражения эмоционального состояния лирического героя – один из наиболее частотных в идиостиле С. Есенина, и поэтому правильность интерпретации поэтических образов, в структуру которых входят наименования фитонимов, является необходимым условием адекватности постижения читателем авторской интенции» [3, с. 79]. Этот прием в большей или меньшей степени характерен и для творчества других поэтов-лириков.
В данной статье предметом изучения являются флористические образы в поэзии Б. Ахмадулиной. На обширном материале, включающем 12 поэтических сборников, созданных в разные годы, выявлены различные грани художественной семантики образов растительного мира и выявлены отдельные грани соотношения в них рационального и эмоционального.
Флористические образы занимают весьма существенное место в поэзии Б. Ахмадулиной, в ее лирике они напрямую сопряжены с образом сада – одним из ключевых в ее лирике. Так, на примере творчества Б. Ахмадулиной выявляется смысл образа сада как универсалии [5], выявляются фольклорные истоки этого образа в русской поэзии второй половины ХХ – начала XXI в. [6].
Мир ранней поэзии Б. Ахмадулиной подчеркнуто урбанистичен, его атрибуты отражены уже в названиях стихотворений – «Мотороллер» (1959 г.), «Автомат с газированной водой» (1959 г.), «Светофоры» (1959 г.). Однако этому рационалистическому миру противостоит мир природы. Уже одно из ранних стихотворений Б. Ахмадулиной – стихотворение «Цветы» 1956 г. – может быть интерпретировано в аспекте соотношения рационального и эмоционального, что включено в более общую оппозицию: природное, естественное – искусственное, рукотворное. Стихотворение непосредственно связано со спорами 1950–1960-х гг., с настороженным отношением к «оранжерейному», оторванному от природы и поэтому ограниченному. В последних строфах стихотворения Б. Ахмадулина заостряет эту оппозицию:
Их дарят празднично на память, но мне – мне страшно их судьбы, ведь никогда им так не пахнуть, как это делают сады.
Им на губах не оставаться, им не раскачивать шмеля, им никогда не догадаться, что значит мокрая земля [1, c. 8].
К ряду флористических образов в поэзии Б. Ахмадулиной относятся образы цветов (прежде всего, розы) и деревьев, при этом деревья, как правило, даны как понятие родовое – дерево как часть целого, как атрибут пространства сада, как, например, в стихотворении «Снегопад» 1968 г.:
Обманувши сады, огороды, их ничтожный размер одолев, возымела значенье природы невеликая сумма дерев [1, c. 107].
Одним из наиболее частотных в поэзии Б. Ахмадулиной становится образ черемухи. Этому растению поэтесса в разные годы посвящает множество стихотворений. Можно говорить о сквозном цикле стихов, объединенных единым флористическим образом.
Началом этого цикла было стихотворение «Черемуха» 1981 г. В период его создания автором, очевидно, не было задумано создание сквозного цикла, поэтому название стихотворения лаконично и нейтрально. Каждое последующее стихотворение отсылает читателя к контексту цикла: «Черемуха трехдневная», «Черемуха предпоследняя», «Черемуха белонощная», «Отсутствие черемухи», и по мере разрастания цикла заглавия стихотворений носят более очевидный и порой экспериментально-демонстративный характер, например: «Скончание черемухи–1», «Скончание черемухи–2».
Уже в первых строках стихотворения «Черемуха» обозначена антиномия рационального и эмоционального в оксимороне из первой строки:
Когда влюбленный ум был мартом очарован, сказала: досижу, чтоб ночи отслужить, до утренней зари, и дольше – до черемух, подумав: досижу, коль Бог пошлет дожить [Там же, с. 229].
Обращение к образу черемухи связано у Б. Ахмадулиной с нарастанием в ее лирике фольклорного начала, что отмечено рядом исследователей. С давних времен черемуха являлась символом молодости, нежности и любви. По легенде, в дерево превратилась девушка, страдающая от неразделенной любви. Именно поэтому в стихотворениях Б. Ахмадулиной появляется мотив страдания.
Стих обещал, а Бог позволил – до черемух дожить и досидеть: перед лицом моим сияет бледный куст, так уязвим и робок, как будто не любим, а мучим и гоним [Там же, с. 229].
«Черемуха», 1981 г.
У восточных славян и ряда других народов черемуха была священным деревом. Черемуха обладала целебным свойством: она не только хранила тайны, но и залечивала душевные раны. О магической силе растения пишет Б. Ахмадулина:
То с нею в дом бегу, то к ней бегу из дома – и разум поврежден движеньем круговым.
Уже неделя ей. Но – дрема, но – истома, и я не объяснюсь с растеньем роковым [Там же, с. 288].
«Цветений очередность», 1983 г.
Черемуха – доверенное лицо, понимающее все сердечные переживания. Но чем больше происходит откровений, тем сильнее становится разрушительное влияние:
Тринадцатый с тобой я встретила восход.
В затылке тяжела твоих внушений залежь.
Но что тебе во мне, влиятельный цветок, и не ошибся ль ты, что так меня терзаешь? [Там же, с. 288].
«Скончание черемухи – 1», 1983 г.
В стихотворении «Черемуха белонощная» (1985 г.) поэтесса продолжает восхищаться и уповать. Лирическая героиня не может расстаться с деревом, хотя ощущает его могущественную силу.
Черемухи вдыхатель, воздыхатель, опять я пью настой ее души.
Пристрастьем этим утомлен читатель, но мысль о нем не водится в глуши.
Что делать мне? К вниманию маньяка черемуха брезглива и слепа.
Не ровня ей навязчивый меняла запретных тайн на мелкие слова [1, c. 341–342].
Лирическая героиня не может расстаться с деревом, хотя ощущает его могущественную силу, даже пытается причинить ему вред:
Давно ль? Да нет, в тысячелетье прошлом, черемухе чиня урон и вред,
Скитаясь по оврагам и по рощам, я всякий раз прощалась с ней навек.
С больным цветком, как с жизнью, расставалась.
Жизнь убывала, длился ритуал:
Страшись своих обмолвок! – раздавалось.
Смысл наущенья страх не разгадал [Там же, с. 428].
«Отсутствие черемухи», 2000 г.
Переменчивое настроение лирической героини мы можем проследить и на примере ее обращения к образу сирени. Согласно легенде, свое название кустарник получил в честь древнегреческой нимфы Сиринги или от греческого слова “Syrinx”, что означает «трубка», «дудочка». Некрасивый бог Пан влюбился в лесную нимфу, но она не отвечала ему взаимностью. Однажды Пан погнался за Сирингой, а она, испугавшись своего преследователя, превратилась в гибкое дерево. Из его ствола Пан сделал себе свирель, чтобы никогда не расставаться с возлюбленной. Интересно, что образ Пана с козлиными рожками и копытцами возникает в стихотворении поэтессы «Сиреневое блюдце» (1982 г.).
Мозг занемог: весна. О воду капли бьются.
У слабоумья есть застенчивый секрет:
оно влюбилось в чушь раскрашенного блюдца, в юродивый узор, в уродицу сирень.
Но постепенно сирень становится ближе лирической героине:
Лишь июнь сортавальские воды согрел –
Поселенья опальных черемух сгорели.
Предстояла сирень, и сильней и скорей, чем сирень, расцвело обожанье к сирени.
«Лишь июнь сортавальские воды согрел..», 1985 г.
Соединив живой предмет и образ, живет за дважды каменной стеной двужильного уединенья доблесть, обняв сирень, оборонясь скалой.
«Сверканье блесен, жалобы уключин…», 1985 г.
Однако этот образ претерпевает эволюцию. Появляется мотив опасности, предопределения: Страдание сознания больного – сирень, сиречь: наитье и напасть.
И мглистая цветочная берлога – душно-лилова, как медвежья пасть.
«Вошла в лиловом в логово и в лоно…», 1985 г.
Сирень, сирень – не кончилась бы худом моя сирень. Боюсь, что не к добру в лесу нашла я разоренный хутор и у него последнее беру.
«Сирень, сирень – не кончилась бы худом…», 1985 г.
Таким образом, можно сделать вывод, что флористические образы в поэзии Ахмадулиной являются средством выражения эмоционального состояния лирической героини. Их художественная семантика эволюционирует, образы обретают экзистенциальный смысл.
Список литературы Художественная семантика флористических образов в лирике Б. Ахмадулиной: соотношение рационального и эмоционального
- Ахмадулина Б.А. Малое собрание сочинений. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017.
- Зубарева В.К. Единственность. Памяти Беллы Ахмадулиной//Нева. 2012. № 3. С. 150-158.
- Камаль З.А., Чарыкова О.Н. Роль фитонимов в репрезентации художественной картины мира С. Есенина//Вестник Вгу. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2011. № 1. С. 78-80.
- Разумовская А.Г. Сады российской поэзии (от символизма до постмодернизма): монография. СПб.: Студия НП Принт, 2014.
- Тропкина Н.Е. Сад как пространственная универсалия в русской поэзии второй половины XX в.//Универсалии русской литературы: сб. ст./отв. ред. А.А. Фаустов. Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2010. С. 347-351.
- Тропкина Н. Е. Образ сада в русской поэзии конца ХХ -начала XXI в.: фольклорные традиции//Литература в школе. 2016. № 8. С. 16-18.
- Чернышева В.Г. Легенды и поверья о растениях . URL: https://myphs.jimdo.com/2015/05/04/черемуха/(дата обращения: 14.10.2017).