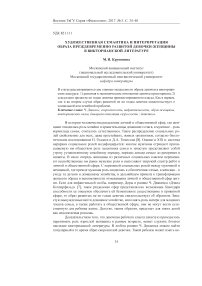Художественная семантика и интерпретация образа преждевременно развитой девочки-женщины в викторианской литературе
Автор: Крупенина Мария Игоревна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются две главные модальности образа девочки в викторианском дискурсе: 1) развитая в экономическом отношении девочка пролетариата; 2) сексуально зрелая не по годам девочка привилегированного класса. Как в первом, так и во втором случае образ развитой не по годам девочки свидетельствует о социальной или семейной проблеме.
Ч. диккенс, скороспелость, инфантильность, образ женщины, викторианская эпоха, бинарная оппозиция "взрослость / детство"
Короткий адрес: https://sciup.org/146122081
IDR: 146122081 | УДК: 821.111
Текст научной статьи Художественная семантика и интерпретация образа преждевременно развитой девочки-женщины в викторианской литературе
В истории человечества разделение личной и общественной сфер, где женщине отводилась роль хозяйки и хранительницы домашнего очага, а мужчине – роль кормильца семьи, считалось естественным. Такое распределение социальных ролей свойственно для всех, даже простейших, живых организмов, согласно биологическим исследованиям П. Геддеса и Д. А. Томпсона [8]. Однако в XIX в. система иерархии социальных ролей модифицируется: многие мужчины отрицают приписываемую им обществом роль защитника семьи и зачастую представляют собой угрозу установленному семейному порядку, нередко доводя семью до разорения и нищеты. В свою очередь женщины из различных социальных классов перенимают несвойственные им ранее мужские роли и выполняют широкий спектр работ в личной и общественной сфере. С переменой социальных ролей между мужчиной и женщиной, где прежде мужская роль сводилась к обеспечению семьи, а женская – к уходу за детьми и домашнему хозяйству, в дальнейшем привела к трансформации женского образа и невозможности отмежевания личной и общественной сфер жизни. Если для инфантильной особы, например, Доры в романе Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд» [7], такое разделение сфер представлялось возможным благодаря способности ее опекунов обеспечить ей безмятежное существование в приватной сфере, то образ развитых не по годам девочек свидетельствует об обратном. Зачастую вынужденные вести домашнее хозяйство, исполнять роль матери для младших членов семьи, а также работать в общественной сфере, они не могут вести естественную для ребенка жизнь. Детство, таким образом, предстает для таких детей как недосягаемая роскошь.
Доказательством того, что девочкам рабочего класса зачастую приходилось перенимать роль взрослой женщины в раннем возрасте, может служить богатое наследие викторианской литературы. В любом романе Ч. Диккенса можно найти популярный в то время образ скороспелой девочки. Такой ребенок может иметь не- сколько взрослых социальных ролей одновременно: быть матерью, женой и даже кормилицей семьи.
В соответствии с С. Митчелл, в 1900-х годах, несмотря на то что детская эксплуатация была законодательно запрещена, «большинство молодых людей работали полный рабочий день, еще находясь в возрасте 13-14 лет. А не достигшие двенадцати лет могли быть на законных основаниях частично задействованы в хозяйственной, торговой и обслуживающей сферах» ( Most young people were in fulltime employment by the age of thirteen and fourteen <…> in agriculture, retail trades, and domestic service ) [11, с. 47].
То же можно сказать и о сексуальной невинности. В 1870 г. 36 новорожденных приходилось на тысячу человек, а количество проституток только в Лондоне варьировалось между 10 000 – 80 000 [1, с. 15]. Согласно У. Т. Стиду и его серии газетных статей «The Maiden Tribute of Modern Babylon», многие из «заблудших» женщин свернули с праведного пути из-за алчности взрослого мира [16]. К. Робсон отмечает, что «такой универсальный феномен, как шокирующие примеры детской эксплуатации, обусловлен экономически и приводит к снижению возрастного порога потери девочками невинности» ( the horrifying visions of exploited girl-labor threate[n] to demote innocent girlhood from the status of an universal phenomenon to an economically contingent construction ) [14, с. 51]. Более того, уменьшение периода детства позволяет «привлечь внимание к активному телу работницы, весьма сексуальному» для мужчин ( focus upon the active body of the working-class girl revealed it to be disturbingly sexual ) [Там же]. В условиях общественных ожиданий девочка рабочего класса всегда представляла собой зрелую женщину.
Одной из целей реформизма XIX в. стало удлинение периода детства: Р. Польхемус, описывая успешную кампанию У. Т. Стида и его газетных заметок, отмечает, что изменение возраста совершеннолетия с 13 на 16 лет повлекло за собой продление девичества, установив срок в три года как защищенный период невинности [13, с. 199]. Несмотря на проведенные реформы, детство так и осталось достоянием среднего и высшего класса, делая очевидным тот факт, что скороспелая девочка рабочего класса – следствие серьезных социальных и семейных проблем.
В данной статье мы рассмотрим две главные модальности в образе скороспелой девочки: не по годам развитых девочек пролетариата в экономическом отношении, а также сексуально развитых девочек привилегированного класса. Хотя существуют отрицательные образы первого и второго типа, авторы зачастую представляют образ экономически и сексуально зрелой девочки как нравственную героиню, жизненные испытания которой описаны так, чтобы «вызвать у читателей жалость и негодование» (to elicit from the reader <…> pity and indignation) [2, с. 85]. Например, в произведениях Ч. Диккенса присутствует четкое гендерное разделение: «Почти все скороспелые правонарушители – мальчики, а невинные идеализированные рано повзрослевшие дети – девочки» (Nearly all the delinquent grown-up children are boys: nearly all the pure, idealised grown-up children are girls) [Там же, с. 86]. Такая дихотомия связана с уподоблением женщин и девочек, именно поэтому скороспелые девочки кажутся более естественными, чем их сверстники. С одной стороны, данный факт обусловлен тем, что такие дети чувствуют привлекательность во взрослости, будь то экономическая независимость, романтические отношения с мужчиной или способность успешно вести домашнее хозяйство. В своем прагматическом желании взрослости такой ребенок способен справиться с любой взрослой социальной ролью. С другой стороны, указанный образ свидетельствует о семейной проблеме (неполной семье, неспособности и/или нежелании родителя выполнять свою социальную роль).
Тип девочки, особенно заметной в повседневности викторианского общества, – уличная торговка. Согласно Г. Мэйхью, количество уличных детей (клоунов, попрошаек, воришек, уборщиков, продавцов) обоих полов в 1851 году в Лондоне составляет 10 000 [10, с. 115]. Если в случае с инфантильными особами детство продолжается и в зрелом возрасте, то скороспелые дети вообще не испытывают чувства детства. Сравним, как Г. Мэйхью описывает уличную торговку на рынке, которая кажется ему «полностью утратившей детские черты, и в действительности мышлением и манерами походила на женщину» ( entirely lost all childish ways, and was, indeed, in thoughts and manner, a woman ) [Там же, с. 157]. Он не знал, как обращаться к ней ( I did not know how to talk with her ) [Там же], а когда все же называет ее ребенком и говорит с ней на детские темы, она отвечает, что уже не ребенок, ей уже почти девять лет ([treat] her as a child, speaking on childish subjects / I aint a child, and I shan’t be a woman till i’m twenty, but I’m past eight, I am ) [Там же, с. 158].
В то время как инфантильные женщины представлены как магнит для взора, того же нельзя сказать о зрелых девочках. Г. Мэйхью приводит физическое описание героини, что позволяет читателю собрать образ воедино: у нее было «маленькое лицо, бледное и тонкое от нужды, испещренное морщинами в том месте, где должны были быть ямочки», «волосы ее, неухоженные, торчали во все стороны» ( little face, pale and thin with privation [and] wrinkled where the dimples ought to have been / long rusty hair [that] stood out in all directions ) [Там же, с. 157].
Однако в основном описание не по годам зрелых детей ограничивается представлением информации об их поступках, деятельности, мировоззрении и опыте без учета внешности. Приведем еще одно описание Г. Мэйхью торговки: «Прекрасно сложенная молодая женщина восемнадцати лет. У нее была привычка немного наклонять голову, будто кланяясь при каждом заданном ей вопросе. Ее клетчатая шаль, прикрывающая грудь, и вельветовый капор измялись от следов корзины. Он казалась очень озадаченной и не знала, куда деть свои руки, то засовывая их под шаль, то грея у огня или же измеряя длину своего фартука. И, ответив на вопрос, она постоянно поворачивалась к топке. Ее голос был сиплый из-за того, что ей приходилось кричать, рекламируя яблоки» (A fine-grown young woman of eighteen. She had a habit of curtsying to every question that was put to her. Her plaid shawl tied over the breast, and her cotton-velvet bonnet was crushed in with carrying her basket. She seemed dreadfully puzzled where to put her hands, at one time tucking them under her shawl, warming them at the fire, or measuring the length of her apron, and when she answered a question she invariably addressed the fireplace. Her voice was husky from shouting apples) [Там же, с. 47]. Такая девочка, как и Беки Шарп в романе У. Теккерея “Vanity Fair” (1847–1848) [17], с самого рождения начинает жить как женщина. Героиня Г. Мэйхью, например, работала разносчицей, присматривала за ребенком кузины, помогала матери в торговле мехом. Однако, в отличие от Беки Шарп, торговка Г. Мэйхью бескорыстна, так как работает во благо всей семьи. Приписывая альтруизм – отличительную черту зрелой женщины викторианского периода – маленькой девочке, читатель сталкивается с проблемой определения истинного статуса такой девочки: она не женщина, но и не ребенок – ни в умственном, ни в нравственном отношении. Именно поэтому она вызывает жалость и сочувствие. Г. Мэйхью описывает реакцию окружающих на такого ребенка: «Есть маленькая девочка, я уверена, ей не больше семи лет, которая продает кресс рядом с моим прилавком. Лишь взглянуть на нее, как говорит моя мама, как этой малышке приходится зарабатывать на жизнь, хотя она едва ли знает, что такое полпенни» (There’s a little gal, I’m sure she an’t more than half-past seven, that stands selling water-cresses next to my stall, and mother was saying, only look there, hoe that little one has to get her living afore she a’most knows what a penn’orth means) [10, с. 47].
Еще одним литературным примером данного феномена может служить образ Оливии Ротсей в одноименном романе Д. Мьюлок-Крейк: «Она выглядела не как ребенок, а как женщина в миниатюре» ( She looked less like a child than a woman dwarfed into childhood ) [6, с. 9]. Несмотря на то, что она ведет себя подобно взрослой женщине, все называют ее «малышкой Оливией» ( «little Olive» ) [Там же, с. 330] даже в зрелом возрасте. Но ее статус ребенка сохраняется лишь на словах. В повествовании она представлена как нравственная героиня, однако, переняв взрослую социальную роль в раннем возрасте, она, хоть и зрелая, все же будет опираться на авторитет родителей, а также будущего супруга, что и составляет идеализированный образ женщины викторианской эпохи.
Рассказ Э. Клайда «Испытание Эффи» (1867) – еще один типичный пример такого образа. Эффи – ребенок лишь по возрасту, но женщина по мышлению и чувствам. «В возрасте тринадцати лет, когда большинство детей все еще находится под защитой семейного гнездышка, она, задумчивая, развитая не по годам девочка, выходит в люди, чтобы занять место среди страждущих работников» ( At an age of 13 when most children are still wrapped in the shelter of the home-nest, the thoughtful premature child-woman of thirteen/forced out into the world to take her place among its struggling bread-winners ) [4, с. 578]. По предсмертной просьбе матери она должна была стать средством вернуть своего отца к лучшей жизни, так как его азартная зависимость отклонила его от традиционной роли защитника семьи. Более того, когда отец закладывает ценный кусок ткани, она защищает его, даже когда ей угрожают тюрьмой. Ее представление о дочернем чувстве долга – ее эмоциональная зрелость – в конце концов приводит к возрождению добродетели в отце. Он раскаивается и возвращается к работе, перестает играть, и «предсмертное желание матери сбывается вовремя; для Эффи оно стало способом привести своего заблудшего отца к лучшей жизни; они снова обрели дом, и малыши, за которых они столько молилась, больше не находились в нужде» ( In due time the mother’s dying prophecy was fulfilled; for Effie was the means of leading her erring father to a better life; they had a home once more, and the little ones, for whom she had prayed so often, did nor want for their daily bread ) [Там же, с. 580]. В конце истории она все так же продолжает ухаживать за домом и родственниками. Однако подразумевается, что, как только отец возьмет на себя ответственность за семью, она может снова стать ребенком.
Такая же тенденция присутствует и в образе главной героини Д. Найта – Сафиры в «Sapphira of the Stage» (1896). У ее отца краниальная патология, которая передается по наследству. Действительно, поведение Сафиры – прямое тому доказательство, например, в эпизоде с куклой, которую она, казалось бы, только что нянчила «с любопытной серьезностью, несвойственной детям» (with a curious gravity totally unchildlike) [9, с. 21], а затем разбивает с невероятной свирепостью. Как и Оливия, с возрастом она становится инфантильной: в двадцать лет она представлена как «еще девочка» (a girl still) [Там же, с. 87] и зарабатывает себе на жизнь, выступая на сцене. У нее большой послужной список доведения мужчин до смерти своим поведением, в чем ей помогает невинная внешность, так как, по словам повествователя, «зрелая женщина всегда более или менее неприятна изысканному вкусу» (The palpably mature woman is always more or less unpleasant to a refined taste) [Там же, с. 42]. Имеется в виду, что неестественное – соприкосновение юности и независимости, девичества и утонченности – не столько свойственно эротической притягательности девочки рабочего класса, сколько составляет ее основу. В конце истории происходит возвращение от атавизма к культуре, к естественному образу женщины через признание Сафирой превосходящей силы ее последнего поклонника, что приводит к смерти героини на его руках.
Таким образом, краниальная патология Сафиры, сгорбленное, как у карлицы, тело Дженни Рен, морщинистое лицо восьмилетней торговки Мэйхью свидетельствуют о наличии семейной проблемы: во всех случаях инфантильные или развитые девочки имеют либо ни на что не способных родителей, либо вовсе не имеют их. Дора Копперфильд – дочь отчужденного вдовца, мать Дэвида Коперфильда – сирота, инфантильный отец Дженни Рен – пьяница, отец Эми Доррит – в тюрьме за долги, Джуди Смоллуид и Эстер Саммерсон вообще не имеют родителей, Оливия – ребенок неудачно женившихся родителей, мать изначально холодна к ней, а отец отталкивает ее. Мать леди Одли мертва, а отец представлен как беспомощный младенец. Лора Фэрли опекает вечно недовольного дядю, презрение и равнодушие которого вовлекают ее в заговор, побуждающий ее «к разговорам, на которые способен лишь ребенок», «показывая другим свои мысли, на которые способен лишь ребенок» ([speaking] as a child might have spoken… [showing others] her thoughts as a child might have shown them ) [5, с. 458]. И только помощь Хартрайта и Голкомп могут помочь ей вернуться к более нормальному взрослому состоянию. Аэша Г. Хаггарда, будучи богиней, и вовсе не нуждается в родителях. Экономически развитые девочки живут как взрослые, так как действительные взрослые не могут взять на себя ответственность, а инфантильные девочки – зачастую взрослые, которые не способны вырасти из детства из-за отсутствия подходящих родительских моделей. Вместе эта бинарная оппозиция «взрослость / детство» представляет собой реакцию на один и тот же феномен.
Стоит отметить, что неспособность отцов рабочего класса затрагивает и иные сферы общества. Не только девочкам предстоит рано повзрослеть, чтобы восполнить неспособность взрослых исполнять свои социальные функции. Хотя классовый статус таких героинь, как Эми Доррит или Эстер Саммерсон, подвергается опасности из-за семейных проблем, их собственные манеры свидетельствуют о нежном, если не об аристократическом, воспитании, а столкновение между обстоятельствами и их наклонностями преждевременно превращает их в женщин. Менее знатная Беки Шарп, очевидно, обязана своей аморальности раннему и близкому знакомству с трудностями соответствия аристократическому образу жизни, ибо ее отец не может содержать семью. Ее ситуация обусловлена «нищетой, которая делает детей взрослыми» ( the dismal precocity of poverty ) [17, с. 21]. Напротив, в семье Оливии бедность не может извинить аморального поведения родителей. Тем не менее грехи отца-аристократа Оливии, включающие супружескую неверность, незаконное отцовство, пьянство, неспособность вести бизнес, – всего лишь стереотипные неудачи мужчины рабочего класса.
Согласно С. Митчелл, «убивая или выказывая пренебрежение отцам, Крейк также отрицает мир, который они представляют, – мир безжалостных систем, безответственности, эгоизма и подавленных эмоций. Так, она разрушает нужду дочерей в зацикленности на детской зависимости, так как они преклоняются перед мужской силой, умом и властью» (By killing and dishonoring the fathers, Craik also rejects the world they represent – the world of rigorous systems, irresponsibility, selfishness, and repressed emotion. Thus she destroys the need for daughters to become fixed in childish dependency because they worship adult male strength, intelligence, and power) [11, с. 111]. Многие беспомощные, слабые матери демонстрируют в ее романах «сомнительность ценности женской традиции в форме, которую налагает на женщин общество» (the value of [feminine] tradition <…> in the form imposed by society, is dubious), ибо она предполагает лишь женскую зависимость (womanly dependence) [Там же]. Примеры таких девочек в повествовании – это женский протест, отрицание не только неудачного личного опыта, но и патриархальных структур, на которых основано викторианское общество.
Зачастую такие девочки служат метафорами различных видов социальных дисфункций. Повествуя о Ч. Диккенсе, А. Адриан утверждает, что как «семья за семьей изображаются без естественного покровительства со стороны взрослых, так и вся викторианская Англия должна рассматриваться как одна большая семья с некомпетентным и безразличным правлением. Короче говоря, несостоятельные родители и презираемые дети – домашние эквиваленты неумелых политиканов и их оставленных на произвол судьбы избирателей» ( Just as family after family is porteyed with the natural guqrdian assuming no control, so Victorian England is to be viewed aas one vast family with incompetent and indifferent leadership. In short, the defaulting parent and the neglected child are to be recognized as the domestic equivalents of the bungling statesmen and their abandoned constituents ) [2, с. 11]. В домашней обстановке такие типажи девочек, как Эффи, образ маленькой матери, позволяют выразить культурное беспокойство о роли родителей в мире, в котором домашняя жизнь подвергается значительным переменам и выступает в качестве светской религии. Таким образом, такие девочки – признак социальной дисгармонии, которая может быть преодолена в конце повествования посредством уменьшения налагаемых на них взрослых социальных ролей, – выступают как средство выражения беспокойства викторианского общества.
ARTISTIC SEMANTICS AND INTERPRETATION OF THE IMAGE OF A PREMATURELY DEVELOPED GIRL-WOMAN
Moscow Aviation Institute (National Research University) Moscow State Linguistic University the Department of Literature
Список литературы Художественная семантика и интерпретация образа преждевременно развитой девочки-женщины в викторианской литературе
- Acton W. Extent of Prostitution. In Prostitution, Considered in Its Moral, Social and Sanitary Aspects. 15-19. London: John Churchill, 1857. 189 p.
- Adrian A. Dickens and Inverted Parenthood//Dickensian 67 (1971). Pp. 3-11.
- Andrews M. Dickens and the Grown-Up Child. Iowa City: University of Iowa Press, 1994. 214 p.
- Clyde A. Effie’s Trial//Quiver, 3rd ser. 2 (1 June 1867). Pp. 577-580.
- Collins W. The woman in White. NY: Penguin, 1974. 720 p.
- Mulock , D. Olive. A novel. NY: Harper & Brothers, 1871. 428 p.
- Dickens Ch. David Copperfield. NY: Bantam, 1981. 960 p.
- Geddes P., Thomson J. A. The Evolution of Sex. NY: Scribner & Welford, 1890. 322 p.
- Knight G. Sapphira of the Stage. London: Jarrold & Sons, 1896. 172 p.
- Mayhew H. London Labour and the London Poor: The Condition and Earnings of Those that Will Work, Cannot Work, And Will not Work. Vol. I. London Street Folk. London: Charles Griffin, n.d., 1862. 504 p.
- Mitchell S. Daily Life in Victorian England. Westport, CT: Greenwood Press, 1996. 311 p.
- Dinah Mulock Craik. Boston: Twayne, 1983 //The Victorian Web. URL: www.victorianweb.org/authors/craik/mitchell. (Дата обращения: 05.07.2017.)
- Polhemus R. Lot’s Daughters: Sex, Redemption, and Women’s Quest for Authority. Stanford, CA: Stanford University Press, 2005. 456 p.
- Robson C. Men in Wonderland: The Lost Childhood of the Victorian gentleman. Princeton: Princeton University Press, 2001. 264 p.
- Steedman C. Strange Dislocations: Childhood and the Idea of Human Interiority. Cambridge: Harvard University Press, 1995. 254 p.
- Stead W. T. The Maiden Tribute Of Modern Babylon: The Report of the Pall Mall Gazette’s Secret Commission. London: Richard Lambert, n.d., 1885.
- Thackeray W. M. Vanity Fair: A Novel Without a Hero. Boston: Houghton Mifflin, 1963. 680 p.