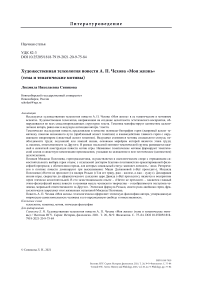Художественная телеология повести А. П. Чехова «Моя жизнь» (тема и тематические мотивы)
Автор: Людмила Николаевна Синякова
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Исследуется художественная телеология повести А. П. Чехова «Моя жизнь» в ее тематическом и мотивном аспектах. Художественная телеология, направленная на создание целостности эстетического восприятия, обнаруживается во всех смыслопорождающих структурах текста. Тематика манифестирует ценностное целеполагание автора, равно как и ведущую интенцию автора / текста. Тематически исследуемая повесть представлена в качестве исповеди-биографии героя (жанровый аспект тематики), поисков жизненного пути (проблемный аспект тематики) и взаимодействия главного героя с окружающим микромиром (сюжетный аспект тематики). Ведущими становятся мотивы социального статуса; необходимости труда; подлинной или ложной жизни, основным маркёром которой является этика труда; и, наконец, ответственности за Другого. В рамках последней мотивно-тематической группы развивается важный в сюжетной конструкции повести мотив игры. Названные тематические мотивы формируют тематический состав и сюжетную композицию произведения, указывая на заложенное в нем эстетическое (ценностное) целеполагание. Позиция Мисаила Полознева, героя-рассказчика, осуществляется в идеологическом споре с отрицающим самостоятельность выбора героя отцом; с излагаемой доктором Благово позитивистски ориентированной философией прогресса; с обитателями города, для которых социальный статус заменяет личность / лицо. Риторически в поэтике повести доминируют три высказывания: Маши Должиковой («Всё проходит»), Мисаила Полознева («Ничто не проходит») и маляра Редьки («Тля ест траву, ржа – железо, а лжа – душу»). Декларация жизни-игры, свернутая до афористического суждения царя Давида («Всё проходит»), является в восприятии героя этически несостоятельной. В его экзистенциальном опыте – «Ничто не проходит» – заключен главный этико-философский вывод повести и основная мысль чеховского творчества – о необратимости поступков человека, моральной ответственности за Другого. Этическая формула Редьки, своего рода двойника героя, фразеологически закрепляет итог жизненных испытаний Мисаила Полознева. Повесть А. П. Чехова «Моя жизнь» телеологически оформляет этическую философию автора, утверждающую творческую самостоятельность человека и его персональную свободу и ответственность.
Телеология, тематика, мотив, этическая философия
Короткий адрес: https://sciup.org/147234686
IDR: 147234686 | УДК: 82-3 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-9-75-84
Текст научной статьи Художественная телеология повести А. П. Чехова «Моя жизнь» (тема и тематические мотивы)
Методологически статья опирается на выводы литературоведов о телеологии художественного целого. Прежде всего следует упомянуть фундаментальные труды А. П. Скафтымова [1972а] и М. М. Бахтина [1975].
А. П. Скафтымов открывает свое исследование тематической композиции романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (1922–1923) следующим тезисом: «Главным методологическим убеждением автора <…> было признание телеологического принципа в формировании произведения искусства. Созданию искусства предшествует задание. Заданием автора определяются все части и детали его творчества. <…> Художник из множества проносящихся в его воображении формальных возможностей выбирает те или иные лишь потому, что узнает в них соответствие тому, что он в себе уже смутно носит и воплощения чему ищет» [Скаф-тымов, 1972б, с. 23]. Ученый справедливо полагает, что телеология художественного произведения обнаруживается в его тематической композиции, которая, в свою очередь, группируется вокруг носителей действия – персонажей [Там же, с. 31].
М. М. Бахтин годом позже (1924) в фундаментальном труде «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» также связывает телеологию и композицию, понятую в качестве технического репрезентанта архитектоники и занимающую по отношению к последней подчиненное положение: «Структуру произведения, понятую телеологически, как осуществляющую эстетический объект, мы будем называть композицией произведения» [Бахтин, 1975, с. 17].
Тема у А. П. Скафтымова и эстетический объект у М. М. Бахтина находятся в корреляции с эстетическим целеполаганием произведения. Эстетическое целеполагание подразумевает ценностный подход автора и читателя к фиктивному миру произведения; немаловажной является смысловая цельность этого мира, обусловливающая единство художественного восприятия. Ценности и смыслы, заложенные в произведении, выявляются в его поэтике – помимо композиции важны персонажи, выражающие ценностные (оценочные) точки зрения, и мотивы, «продвигающие» эти оценки и «привязанные» к персонажам. Персонажи, получающие тематическое и концептуальное развертывание в художественном мире, функционально связаны с тематическими мотивами, поскольку последние составляют тематический каркас произведения и неминуемо выводят к его тематическому, а затем и эстетическому единству 1.
Современная наука интегрирует опыт литературоведения как 1920-х гг., так и позднейшего времени, и определяет художественную телеологию как «целесообразность организации произведения, его устройство в соответствии с целью, художественной задачей автора» [Володина, 2016, c. 173].
В настоящей статье рассматривается система тематических мотивов, корреспондирующих с ценностной (мировоззренческой) позицией ведущего персонажа и этико-философскими воззрениями стоящего за ним автора, на материале повести А. П. Чехова «Моя жизнь (Рассказ провинциала)» (1896) 2. Рабочая для данной статьи связка поэтологических единиц: персонажа-актора, тематики и тематических мотивов – служит средством изучения этико-философской телеологии произведения, которая и обеспечивает целостность «художественного впечатления» (М. М. Бахтин) словесно-эстетического объекта.
Результаты исследования
В повести «Моя жизнь» главная тема – рассказ об испытаниях героя – реализуется посредством мотивов: социального статуса; необходимости труда; настоящей / ненастоящей жизни (определяемой не в последнюю очередь всё тем же отношением к труду); и, наконец, ответственности за Другого (в этой мотивно-тематической группе развивается в том числе мотив игры). Названные тематические мотивы, на наш взгляд, формируют тематический состав и сюжетную композицию произведения, указывая на заложенное в нем эстетическое (ценностное) целеполагание.
Одним из главных в сюжетной конструкции повести является мотив социального статуса. В повествовании он выражен посредством формулы «общественное положение», по-другому – «репутация» (совмещение этих понятий встречаем в ироническом признании рассказчика: «…у меня была дурная репутация оттого, что я не имел общественного положения» [Чехов, 1985, т. 9, с. 197]) 3. Главный герой, Мисаил Полознев, вспоминает последние два года своей жизни. Воспоминания открываются тяжелым разговором с отцом – самовлюбленным человеком, бездарным на любом поприще, – деспотическим родителем, посредственным ритором, бесталанным архитектором. Прибегая к высокому слогу («дух божий, святой огонь», который посещает лишь избранных, в том числе и род Полозневых, ныне попираемый недостойным потомком), отец упрекает Мисаила в желании заняться физическим трудом: «Ни одного дня ты не должен оставаться без общественного положения» (c. 193). Мисаил возражает: «То, что вы называете общественным положением, составляет привилегию капитала и образования. Небогатые же и необразованные люди добывают себе кусок хлеба физическим трудом <…>» (c. 193).
Экспозиционный диалог указывает, казалось бы, на безоговорочно народническую или толстовскую [Скафтымов, 1972в, с. 394–396] проблематику повести. Народническая трактовка проблемы труда и отношения к людям физического труда «подсказана» в частности эди-ционной историей «Моей жизни»: отдельным изданием повесть вышла в 1897 г., объединенная с повестью «Мужики» (1897). Последующие издания «Моей жизни» – со второго по седьмое – вновь состоялись под одной обложкой с названной повестью (см. коммент. (с. 496)). Разумеется, народническое и толстовское влияние в постановке вопроса о праве на «низкую» работу человека из дворянского сословия неоспоримо, поскольку социально-исторический контекст выдвигал на первый план вопросы труда и распределения совокупного общественного продукта.
Однако мы склонны согласиться и с экзистенциально-философской интерпретацией позиции главного героя [Зайцева, 2015, c. 18–20]. Исследовательница находит схождение в этической позиции субъекта у Кьеркегора («Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал») и Чехова («Моя жизнь»). По мнению Т. Б. Зайцевой, «Ми-саил отнюдь не толстовец, а скорее этик в киркегоровском смысле. Этическая концепция труда помогает чеховскому герою не только определить, но и этически-сознательно выбрать пределы своего земного бытия, помогает быть», однако «этический выбор не избавляет человека от сомнений, от отчаяния, не дает никаких гарантий, что герой-этик обретает истинное существование, обретает истину» [Там же, с. 20].
Отсутствие труда, безделье, пусть и на «благородной» службе в конторе строящейся железной дороги, угнетает Мисаила. Прибыв в Дубечню, новоприобретенную усадьбу инженера путей сообщения Должикова – именно там ему предстояло служить, он мучится от своей неприкаянности, от того, что бессмысленный конторский труд никому не нужен: «…мною мало-помалу овладела тоска – тоска физическая, когда чувствуешь свои руки, ноги и всё свое большое тело и не знаешь, что с ними делать, куда деваться» (с. 208). Переживаемое Мисаи-лом отчуждение от неоспоримой материальности тела, экзистенциальная эмоция тоски, исходящая как от созерцания безбрежной степи («Но что можно было увидеть в этой пустыне?»), так и отсутствия своего места в жизни, будто предсказывает его разочарование от бессмысленного, несозидательного занятия в конторе. Постоянно испытывая физическую тоску (вернее, погружаясь в экзистенцию тоски), Мисаил окончательно решает обратиться к труду тяжелому, востребованному: «От праздности и неопределенности положения меня тяготила физическая тоска, и я, недовольный собою, вялый, голодный, слонялся по усадьбе и только ждал подходящего настроения, чтобы уйти» (с. 214).
Заметим: труд для главного героя – форма необходимости, в то время как досуг, который приравнивается к безделью, тягостен. Согласимся с мыслью Ю. К. Щеглова, который выделил труд и досуг в качестве одной из трех ведущих тем чеховского творчества; две другие – это тема «утраченного рая» и «идиотической тирании». Последняя присутствует в тематическом корпусе повести и связана как с деспотичностью отца героя, так и с совокупным влиянием города, т. е. косного общественного мнения, на личность. Ученый, выделяя тему труда в «Моей жизни» в качестве центральной, утверждает, что ежедневный труд «приносит и личное удовлетворение, давая интеллигенту <…> право на самоуважение <…>» [Щеглов, 2013, с. 523].
Отношение к людям труда выявляет подлинную сущность человека. Отец Мисаила высокомерно полагает «ручной» труд уделом «раба и варвара» (с. 193). Инженер Должиков, многократно хвастающийся тем, что он начинал свою карьеру смазчиком, затем машинистом, называет рабочий люд Пантелеями, а конторских служащих (их всего двое – Мисаил и никчемный сын генеральши Чепраковой) – «пьяницами, скотами, сволочью» (с. 214). Вместе с тем инженер, доподлинно известно, брал взятки (с. 256), и его благосостояние было наполовину неправедно нажитым. Когда Мисаил посещает дом этого важного лица в качестве просителя, он иронично воспринимает окружающую роскошь: «…всё, кажется, так и хочет сказать, что вот-де пожил человек, потрудился и достиг, наконец, возможного счастья на земле» (с. 203). Это счастье истекает из обстановки дома, запаха богатых сигар, ковров, кресел (рассказчик подчеркивает, что «пахнет счастьем» (с. 203, 204)) и продолжается в фигуре упоенного своим богатством инженера, напоминающего «фарфорового, игрушечного ямщика» (с. 204). Сфера вещей, распространяющихся на живое, и живое, овеществленное в образе декоративной поделки, – это фокус видения рассказчика. Неразличение живого и неживого иронически аннигилирует образ хозяина этих вещей – инженера.
Город, среда обитания героя, представляет собой место, едва ли не эмблематически выражающее презрительное отношение к труду. «Я любил свой родной город, <…> но люди, с которыми я жил в этом городе, были мне скучны, чужды и порой даже гадки. <…> Я не понимал, для чего и чем живут все эти шестьдесят пять тысяч людей» (с. 205). Неправильное отношение к труду влечет за собой неправильную мораль и оправдывается этой моралью. Мисаил размышляет о том, что безликий город, застроенный уродливыми домами – плодами «творчества» его отца-архитектора, не трудится, не развивается; его население грубо (развлечения лавочников, привязывающих жестянки к хвостам собак) и погрязло в предрассудках (достаточно вспомнить «передовое» семейство Ажогиных, которое якобы искореняет суеверие, но которое совсем не изящно выпроваживает из своего дома сестру героя, узнав, что она ожидает внебрачного ребенка). Добрая и развитая Анюта Благово, тайно влюбленная в Мисаила, просит его не подходить к ней на улице, ибо и над ней довлеют пресловутые приличия, а человек дворянского круга, ушедший в маляры, – это человек без «общественного положения». Люди с «общественным положением» берут взятки, включая «высокоморального» отца героя (воображающего, что их дают «из уважения к его душевным качествам» (с. 206)). Те же, которые не берут, – судебные чины, – искупают отсутствие мзды игрой, пьянством и имеют «на среду вредное, развращающее влияние» (с. 206). Мисаил своим «выходом» из сословия нарушил установленный порядок. Даже мясник Прокофий попрекает его тем, что дворянин не должен выполнять грязную работу: «Есть губернаторская наука, есть архимандритская наука, есть офицерская наука, есть докторская наука, и для каждого звания есть своя наука. А вы не держитесь своей науки, и этого вам нельзя дозволить» (с. 233). Запрет на «неподобающую» деятельность входит в систему социальных регулятивов как общества в целом, так и его микромодели – небольшого города.
Во время окончательного объяснения с отцом герой обвиняет «порядочных» обывателей: «Во всем городе ни одного честного человека! Эти ваши дома – проклятые гнезда, в которых сживают со света матерей, дочерей, мучают детей… <…> Город наш существует уже сотни лет, и за всё это время он не дал родине ни одного полезного человека <…>! Вы душили в зародыше всё мало-мальски живое и яркое! Город лавочников, трактирщиков, канцеляристов, ханжей, ненужный, бесполезный город <…>» (с. 278). Место, где труд изгоняется из жизни, обречено на нравственную и социальную деградацию. Город, как культурная локация, которая продуцирует ложные ценности, саморазрушителен в своей основе.
В повести заявлено и приятие труда – но как социальной необходимости, не как призвания (последнее артикулировано только рассказчиком, сознательно избравшим свой жизненный путь). В среде своих товарищей-маляров Мисаил подмечает хитрость, леность и даже вороватость – ведь работники почитали едва ли не долгом умыкнуть немного хозяйской олифы. Не прочь поживиться чужой олифой даже праведник Редька, подрядчик. Человек, который следует своему девизу «Тля ест траву, ржа – железо, а лжа – душу» (с. 215, 216, 272–273), не считает грехом присвоение толики хозяйского добра, потому что таков обычай. И всё-таки жизнь маляров заполнена делом, и Мисаил принимает ее тяготы. Отметим, что изможденный неведомой хворью Редька каждую весну и осень собирался умирать, однако неизменно воскресал и удивлялся своей живучести – трагикомическое выражение бессмертной сущности праведника…
В споре с доктором Благово Мисаил отстаивает необходимость труда в процессе нравственного совершенствования: «…прогресс – в делах любви, в исполнении нравственного закона» (с. 220). Доктор – позитивист, в его представлении прогресс определяется развитием науки, а единица измерения прогресса – не отдельная человеческая жизнь, а всё человечество, живущее интересами цивилизации и идеей непрерывного развития (заметим, неосуществимого в продолжение жизни человека и необозримого даже на протяжении жизни нескольких поколений): «Если улитка в своей раковине занимается личным самосовершенствованием и ковыряется в нравственном законе, то вы это называете прогрессом?» (с. 221).
Мисаил убежден, что бесконечность – плохой ориентир для идеи прогресса, ведь его должен ощутить каждый человек, а при размытости (диффузности) цели прогресса у человека утрачивается цель собственной жизни: «Жить и не знать определенно, для чего живешь!» (с. 221). Доктор настаивает: «Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, цивилизацией, культурой, иду и иду, не зная определенно, куда иду, но <…> ради этой чудесной лестницы стоит жить; а вы знаете, ради чего живете – ради того, чтобы одни не порабощали других, чтобы художник и тот, кто растирает для него краски, обедали одинаково. Но ведь это мещанская, кухонная, серая сторона жизни <…> Если одни насекомые порабощают других, то и черт с ними, пускай съедают друг друга!» (с. 221).
Социал-дарвинистская доктрина доктора Благово вполне укладывается и в его обыденную мораль. Пренебрежение интересами другого человека, будь то трактирный слуга или соблазненная и брошенная им сестра Полознева – Клеопатра, для него вполне естественны. Рассказчик замечает, что «этот самый образованный и лучший человек в городе далеко еще не был совершенством. В его манерах <…> было что-то грубоватое, семинарское, и когда он <…> бросал в трактире лакею на чай, то мне казалось всякий раз, что культура – культурой, а татарин всё еще бродит в нем» (с. 231–232). Сестра гибнет от болезни и нищеты в каморке Мисаила, а благоденствующий доктор этого не замечает и разглагольствует о своей ученой карьере…
В период своей деревенской жизни – после женитьбы на дочери инженера Должикова – герой сам участвует в полевых работах, хотя иногда ему и кажется, что это неестественное для него, городского жителя, занятие (с. 245). Именно с появлением Маши Должиковой в жизни Полознева проблематика труда осложняется проблемой подлинной / неподлинной жизни. Маша, первоначально заинтригованная бунтарством героя, увлеклась им и – на короткое время – разделила его убеждение в обязательности труда. Она пытается выстроить школу для крестьянских детей, но сами крестьяне часто саботируют работы. Мужики ленивы, норовят на каждом шагу обмануть «бар», погрязли в пьянстве… Маша в порыве гнева называет их «дикарями» и «печенегами» (с. 253), – не разглядев в них ничего, кроме пьянства, неблагодарности и небрежения своим прямым делом – возделыванием земли.
Мисаил, напротив, тянется к крестьянскому люду: «В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всем том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая, в общем, держится на каком-то крепком, здоровом стержне. <…> в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и докторе, а именно, он верит, что главное на земле – правда, и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость» (с. 256). Удивительнее всего, в представлении По-лознева, что отец Маши «тоже пил, много пил, и что деньги, на которые была куплена Дубечня, были приобретены путем целого ряда наглых, бессовестных обманов» (с. 256). Но Маша этого не замечает – ее гнев направлен только против мужиков. Для Мисаила мужик неправ в частностях, но обладает правотой в главном – в том, что жизнь устроена несправедливо, а его труд отчужден от него. Маша, обвиняя мужика в дикости и невежестве, забывает о правде, которой он спасается. Полезные дела в деревенской жизни Маши – результат игры в доброго хозяина, вызванной не чувством долга, а потребностью избавиться от скуки. Героиня, которая не любит ни крестьян, ни земли, солидарна с мельником Степаном, считающим мужиков «зверьем, шарлатанами» (с. 254). С усмешкой выслушивая новости об очередных проделках деревенских жителей, она пренебрежительно отмахивается от этой неприятной обыденности: «Что же вы хотите от этих людей!» (с. 256).
Игрой является не только исполнение социальной роли, к которой принуждает себя Маша Должикова, но и артистическое исполнение какого-либо этюда, жанровой сценки. Такого рода игра, т. е. непосредственно артистическое занятие, лицедейство, составляет значительную тематическую группу. Ставят любительские спектакли у Ажогиных, превосходно подражает известным певцам Маша Должикова, сторонник безличного прогресса доктор Благо-во, несмотря на свою брезгливость в отношении всеобщей отсталости, с наслаждением шутливо изображает пьяницу… Игра естественна для Маши Благово, неестественны заботы о ближних – подчиненных ей крестьянах и преданном ей Мисаиле: «Она смеялась, шалила, мило гримасничала, и это больше шло к ней, чем разговоры о богатстве неправедном, и мне казалось, что говорила она давеча о богатстве и комфорте не серьезно, а подражая кому-то. Это была превосходная комическая актриса» (с. 229). Бросив наскучившую ей деревенскую жизнь, а заодно и Мисаила, выражавшего серьезное отношение к этой полной тягот жизни, Маша Благово уезжает в Петербург, а затем и в Америку. В прощальном письме она признается, что «всё проходит, пройдет и жизнь, значит, ничего не нужно» и что свободному человеку «ничего, ничего, ничего не нужно» (с. 272).
Сняв с себя всякую ответственность за зависимых от нее людей, Маша Должикова испытывает чувство эгоистической безмятежности, которую она принимает за чувство свободы. Словесным выражением этой позиции стала формула трехтысячелетней давности – слова царя Давида «Всё проходит». Заказав кольцо с надписью по-древнееврейски, Маша подытоживает свою жизнь.
Такую же философию невмешательства, самоустранения исповедует и доктор Благово, оставивший несчастную сестру Мисаила на произвол судьбы. Человек, у которого десять разных костюмов, с легкостью бросает отвергнутую отцом девушку, которая вскоре погибнет от болезни и бедности. Глядя на доктора, самозабвенно рассуждающего о своем блестящем будущем в науке, Мисаил размышляет: «У той – Америка и кольцо с надписью, <…> а у этого – докторская степень и ученая карьера, и только я и сестра остались при старом» (с. 275). Позже, пережив смерть сестры, добившись признания его «малярии» (слово Маши Должиковой) горожанами, став вровень с Редькой в иерархии мастеров, Мисаил приходит к иному, нежели его бывшая жена, заключению: «Если бы у меня была охота заказать себе кольцо, то я бы выбрал себе такую надпись: “ничто не проходит”. Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни» (с. 279). Согласно главному этическому постулату автора, «жизнь есть сосредоточенное нравственное усилие», и «герои, с которыми связана авторская надежда, не уходят, а остаются» [Сухих, 1987, с. 173]. В этом смысле бегство Маши даже не уход – поиск своего места в мире (ср. сюжет ухода в русской литературе, например, [Богодерова, 2011]) 4. Это именно бегство, смена обстоятельств при неизменности и неизменяемости нравственного существа.
В «споре» жизненных девизов Маши Должиковой и Мисаила Полознева обозначены этические полюса жизни для себя и для других. В ответе Мисаила заключен главный этикофилософский вывод повести и основная мысль чеховского творчества – вывод о необратимости поступков человека, о моральной ответственности за другого, равного тебе человека (подробнее об этическом мировоззрении Чехова см.: [Линков, 1995]) 5. Напомним: константой чеховского творчества является идея «бога живого человека» и «общей идеи», которая оправдывает жизнь личности (словесные формулы принадлежат герою повести «Скучная история», старому профессору, накануне смерти очутившемуся лицом к лицу с экзистенциальными вопросами ложного существования и подлинного смысла жизни) 6.
Заметим, что Редька, постоянный зритель репетиций и спектаклей в доме Ажогиных, слушая драматургические произведения Гоголя или Островского, которые ему читает Клеопатра Полознева, реагирует на них двояко: либо «Всё может быть!», либо «Вот она, лжа-то! Вот она что делает, лжа-то!» (с. 272). В первом случае он оценивает материал пьесы как таковой, его правдоподобие, во втором – критический пафос, правдивость – «пьесы привлекали его и содержанием, и моралью <…>» (с. 272). Суждение маляра-праведника имеет отношение к теме жизни-игры (Маша Должикова, доктор Благово) – для Редьки, как и для Мисаила, жизнь серьезна, наполнена моральной ответственностью, а игра в жизнь есть отклонение от истины.
По наблюдению Н. В. Живолуповой, выделившей в персоносфере повести трех приближенных к святости акторов: главного героя, Редьку и Анюту Благово, – «функционально Редька – чудесный помощник героя и резонер, повторяющий <…> слова о гибельности лжи для души человека. Но в повести он метафорически связан с судьбой Мисаила как авторской концепцией реальности в сюжете» [Живолупова, 2017, с. 127]. Исследовательница обосновывает метафоричность образа Редьки имплицитной отсылкой его личности и деяний к семантике и символике образа Николы Угодника, что не противоречит агностическому мировоззрению автора. И определенное «превращение» Мисаила в финале повести в Редьку (признание в городе, уважение рабочих) подтверждает агностическую установку писателя на недостижимость однозначной и окончательной истины [Там же, с. 127–128]. Взаимосвязь и взаимная ответственность каждого составляют подлинное содержание жизни, убежден Ми-саил, ретранслирующий кредо автора.
Заключение
Экзистенциальный опыт главного героя повести А. П. Чехова «Моя жизнь» выработался в утверждении правоты свободного выбора и аннигиляции альтернативных точек зрения: человек социально инерционен и лишен личностной самостоятельности (Полознев-отец; его комический двойник Прокофий с учением о «науке» общественного положения); прогресс есть вечное движение, не имеющее этической цели (доктор Благово); жизнь представляет собой смену необременительных впечатлений и располагается вне этики долга и добра (Маша Должикова). Мисаил Полознев добивается признания его ремесла общественным мнением города. Следование моральным принципам, афористически выраженным маляром Редькой, способствует окончательному этическому самоопределению героя.
Этико-философская телеология повести смыкается с художественной: основными ценностями жизни признаются созидание (труд), самопожертвование во имя ближнего и отвержение лжи (как в форме ложного высказывания, так и в форме жизни-игры).
Список литературы Художественная телеология повести А. П. Чехова «Моя жизнь» (тема и тематические мотивы)
- Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С. 6–71.
- Богодерова А. А. Сюжетная ситуация ухода в русской литературе второй половины XIX века: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2011. 16 с.
- Володина Н. В. «Телеология» как философско-эстетическая и историко-литературная категория // Stephanos. 2016. № 4. С. 172–181.
- Живолупова Н. В. Достоевский и Чехов: аспекты архитектоники и поэтики. Н. Новгород: Дятловы горы, 2017. 268 с.
- Зайцева Т. Б. Художественная антропология А. П. Чехова: экзистенциальный аспект (Чехов и Киркегор): Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2015. 42 с.
- Линков В. Я. «Ничто не проходит бесследно…» О повести Чехова «Моя жизнь» // Вопросы литературы. 2005. № 3. С. 293–304.
- Линков В. Я. Скептицизм и вера Чехова. М.: Изд-во МГУ, 1995. 78 с.
- Мысливченко А. Г. К вопросу о мировоззрении А. П. Чехова // Вопросы философии. 2012. № 6. С. 95–105.
- Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий / Гл. ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. 358 с.
- Родионова О. И. А. П. Чехов как мыслитель. Религиозные и философские идеи: Автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2013. 18 с.
- Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М.: Худож. лит., 1972а. 543 с.
- Скафтымов А. П. Тематическая композиция романа «Идиот» // Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М.: Худож. лит., 1972б. С. 23–87.
- Скафтымов А. П. О повестях Чехова «Палата № 6» и «Моя жизнь» // Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М.: Худож. лит., 1972в. С. 381–403.
- Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. 187 с.
- Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М.: Наука, 1985. Т. 9. 543 с.
- Щеглов Ю. К. Три лекции о Чехове. Избранные темы и мотивы // Щеглов Ю. К. Избранные труды. М.: РГГУ, 2013. С. 508–574.