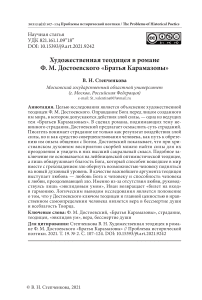Художественная теодицея в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
Автор: Степченкова Валентина Николаевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования является объяснение художественной теодицеи Ф. М. Достоевского. Оправдание Бога перед лицом созданного им мира, в котором допускаются действия злой силы, - одна из ведущих тем «Братьев Карамазовых». В сценах романа, поднимающих тему невинного страдания, Достоевский предлагает осмыслить суть страданий. Писатель понимает страдание не только как результат воздействия злой силы, но и как средство совершенствования человека, как путь к обретению им опыта общения с Богом. Достоевский показывает, что при христианском духовном восприятии скорбей можно найти силы для их преодоления и увидеть в них высший сакральный смысл. Подобное заключение не основывается на лейбницевской оптимистической теодицее, а лишь обнаруживает благость Бога, который способен вошедшее в мир вместе с грехопадением зло обернуть возможностью человеку подняться на новый духовный уровень. В качестве важнейшего аргумента теодицеи выступает любовь - любовь Бога к человеку и способность человека к любви, преодолевающей зло. Именно из-за отсутствия любви, руководствуясь лишь «эвклидовым умом», Иван возвращает «билет на вход» в гармонию. Логическим выводом исследования является положение о том, что у Достоевского ключом теодицеи и главной ценностью в нравственном самоопределении человека является вера в бессмертие души и всеблагость Творца.
Ф. м. достоевский, «братья карамазовы», страдание, теодицея, «эвклидов ум», вера, бессмертие души
Короткий адрес: https://sciup.org/147227245
IDR: 147227245 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9242
Текст научной статьи Художественная теодицея в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
Р оман «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского называют романом-теодицеей [Шмид: 77], потому что предъявляемой Иваном в разговоре с Алешей претензии к Богу за страдания невинных противостоит оправдание Бога и утверждение Его как абсолютной любви. В. К. Кантор говорит о том, что Достоевский был первым, кто в России обратился к «проблеме теодицеи в ее христианском прочтении» [Кантор: 426].
Защита Бога у Достоевского представлена не по пунктам, а художественно, идея деятельной любви реализуется с помощью образов Зосимы и Алеши. Обвинения же писатель, напротив, изложил логически — Иван приводит целую коллекцию «фактиков», после которых следует вывод:
«Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь»1.
Главная причина «возращения билета» в гармонию — это незаслуженные страдания. Но чем больше в романе говорится о скорбях, тем сильнее становится утверждение правды Бога, потому что «страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца» ( Д30 ; 6: 203).
Как через страдания мы можем в полной мере почувствовать, что такое счастье ( «без страдания не поймем счастья» ( Д30 ; 29 1 : 137) ) , так и на их фоне познаются милосердие и благость Бога. Но такое глубинное понимание теодицеи через «художественную картину» дано не всем: по мнению Н. О. Лос-ского, осознать это могут только «читатели, способные к христианскому духовному опыту», так как «упреки Богу Ивана Карамазова сильнее, чем защита Бога старцем Зосимою и Алешею» [Лосский: 194]. Поэтому целью данного исследования является выделение из «художественной картины» тех положений теодицеи, которые писатель на смысловом уровне заложил в различные эпизоды романа. В первую очередь анализируются сцены, связанные со страданиями, потому что страдание — один из тех вопросов, с которых началась теодицея. Прп. Иустин (Попович) говорил, что произведения Достоевского «могут быть названы: Защита Православного Лика Христова или Православная теодицея» [Иустин (Попович): 151].
В главе «Верующие бабы» среди страждущих, которых приводили к старцу, были женщины, называемые кликушами. Они являют пример того типа страданий, где внешние трудности приводят к сильным внутренним расстройствам души. Повествователь по ходу рассказа поясняет, что это явление — свидетельство тяжелой изнурительной судьбы русской сельской женщины. При этом автор не только рассказывает об особенностях этой болезни и называет ее причины, но и для читателей-скептиков поясняет:
«Я с удивлением узнал от специалистов-медиков, что тут никакого нет притворства, что это страшная женская болезнь» ( Д30 ; 14: 44).
Упоминание при этом «специалистов-медиков» придает утверждению авторитетность. Далее рассказчик описывает исцеление кликуш возле Святых Даров, показывает роль причастия в избавлении или послаблении этого состояния:
«Их приводили к обедне, они визжали или лаяли по-собачьи на всю церковь, но, когда выносили дары и их подводили к дарам, тотчас “беснование” прекращалось и больные на несколько времени всегда успокоивались» ( Д30 ; 14: 44).
Для того чтобы не оставалось сомнений в истинности рассказа, вводятся слова: « мгновенное исцеление», « только лишь подведут к дарам», « натуральным образом », « установившаяся истина », « всегда происходило», « должно было происходить», « непременно совершалось» ( Д30 ; 14: 44; курсив мой. — В. С. ). Писатель показывает, что путем чудотворного прикосновения Христа прежние боль и страдания постепенно переходят в умилительную радость. Благодаря Святым Дарам человек чувствует, как земная жизнь его соприкасается с новой — бесконечной, неведомой, но уже скоро грядущей; над всеми страданиями возносится всепрощающая правда Божия [Попович: 248]. Таким образом, приближение к Богу через Таинства знаменует Божье прикосновение к человеку, которое облегчает его состояние среди скорбей — это одно из положений теодицеи Достоевского перед лицом страданий.
В главе «Верующие бабы» Достоевский рассказывает о двух выражениях несчастья женщины. Первое — «молчаливое и многотерпеливое; оно уходит в себя и молчит» ( Д30 ; 14: 44).
Страдание Софьи Ивановны можно отнести к «молчаливому», или «внутреннему» [Словарь языка Достоевского: 321]: скорби она переносила тихо, смиренно, безропотно и лишь перед иконой открывала свою душу, и горячо молилась в слезах. Молчаливому горю противопоставляется второй тип страдания: его являют люди, которые утоляют себя причитаниями, говорят нараспев, растравляют и надрывают сердце. К старцу Зосиме приходит похоронившая ребенка-«трехлеточку» женщина, убитая такого рода горем, и изливает все свое материнское страдание. Эта картина является примером исповеди — одного из определяющих мотивов, сопровождающих тему страдания, мотива, претворяющегося в отдельное жанровое образование, «психологическое значение» которого «заключается в том душевном облегчении, которое испытывает человек после изложения мучающих его жизненных обстоятельств или духовных терзаний» [Аникин: 3]. Для того чтобы облегчить душу безутешной матери, старец начинает рассказывать о том, как живется ее сыночку на небесах. Роберт Л. Бэлнеп отметил особую повествовательную стратегию Достоевского: Зосима не отвечает женщине прямо, а вводит повествователя третьего порядка [Бэлнеп: 121]:
«Вот что, мать, — проговорил старец, — однажды древний великий святой увидел во храме такую же, как ты, плачущую мать и тоже по младенце своем, по единственном, которого тоже призвал Господь. “Или не знаешь ты, — сказал ей святой, — сколь сии младенцы пред престолом Божиим дерзновенны? <…>”» ( Д30 ; 14: 46).
Посредством пересказа слов святого высказывание Зосимы приобретает особую убедительность, крестьянка понимает, что слова о дерзновенных младенцах на небесах — абсолютная истина. Ведь «два святых лучше, чем один: если старец Зоси-ма говорит, что так сказал святой, это лучше, чем если бы так сказал только старец Зосима или только святой», — так развивает мысль Роберт Л. Бэлнеп [Бэлнеп: 121]. Достоевский показывает следующий путь облегчения страданий: исповедь и наставление духовника, ведущие к исцелению души и решению многих «вечных проблем» [Иустин (Попович): 7] — эти действия также являются составляющими теодицеи. С. М. Ка-пилупи отмечал, что в отличие от простого тайного признания (признание Смердякова перед Иваном, Ивана перед судом), исповедь — это «христианское таинство», которое должно происходить «духовному лицу» как «почти непосредственно перед Богом» — лишь в этом случае происходит полнота облегчения от душевных мук [Капилупи, 2019: 262].
Стоит отметить, что кликуши у писателя находятся в особом ранге страдальцев. От кликуши родился главный герой романа — Алеша. Именно воспоминания о матери и ее молитве приведут молодого человека на монастырскую дорогу. Алеша словно вновь видит «в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях, рыдающую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице» ( Д30 ; 14: 18).
Несмотря на «истерику, взвизгивание и вскрикивание», в Алешиной памяти остался добрый образ мамы-кликуши, и от описываемой рассказчиком картины у него сохранилось противоположное впечатление: Алеша вспоминал этот вечер как «тихий», а лицо матери ему казалось «прекрасным», это одно из тех воспоминаний, которые выступают «всю жизнь как бы светлыми точками из мрака» ( Д30 ; 14: 18). Сам автор рассказывает об Алешиных воспоминаниях по-разному: вначале было сказано, что он запомнил ее «как сквозь сон» ( Д30 ; 14: 13) — очевидно, на тот момент эти воспоминания были не так важны. Но потом, когда обнаружилась взаимосвязь воспоминаний о матери и воспоминаний о встрече с Зосимой, то говорится, что мать Алеша запомнил «на всю жизнь» и «точно как будто она стоит предо мной живая» ( Д30 ; 14: 18). В этом эпизоде видим, как страдания матери Алеши рождали в ней горячую молитву, которая являлась единственной силой, спасающей от отчаяния, потому что «ни ум, ни воля, ни дух уже не могли вести по бесконечным пространствам новой реальности», и тогда молитва становилась оком, которое вело через страшно сложную тайну Вечности [Иустин (Попович): 167]. Эти воспоминания детства явились звеном в цепи, приведшей юношу на монастырскую дорогу: страдания — молитва — воспоминания — монастырь — старец. Молитва может давать сиюминутное облегчение:
«В горячей молитве своей <…> лишь жаждал радостного умиления, прежнего умиления, всегда посещавшего его душу после хвалы и славы богу, в которых и состояла обыкновенно вся на сон грядущий молитва его» (Д30; 14: 149).
Но она же может иметь и отдаленное действие: молитва давно покойной матери продолжала жить в душе Алеши. Молитва устанавливает невидимую связь с Создателем, которая является внепространственной и вневременной, и является частью теодицеи, утверждающей благость и любовь Бога в мире, где наличествует зло.
Центром не только теодицеи, но и дьяволодицеи в романе стала глава «Бунт». В ней Иван рассуждает о страданиях, приводит Алеше факты человеческой жестокости с детьми и ставит сложные философские вопросы. Иван знает, что Алеша «хорошо стоит на ногах», и все его интересы можно выразить в вопросе «како веруеши, али вовсе не веруеши». Иван заводит свой разговор с целью, которую он определил в самом начале:
«Я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя» ( Д30 ; 14: 215).
А также желание Ивана — поставить Алешу на его (Ивана) «точку» ( Д30 ; 14: 216). В беседе он приводит пример Иоанна Милостливого, утверждая, что его любовь к пришедшему к нему страннику — ложь и надрыв. В описании этой истории Иван делает акцент вовсе не на милосердии и сострадании, а на тягостном облике прохожего. Используя градацию, он нагнетает неприязнь в описании внешности путника: «голодный» — «обмерзший» — «гноящийся» и «зловонный» рот — «ужасная болезнь» ( Д30 ; 14: 215). Для убедительности своих взглядов Иван присваивает себе большое количество единомышленников:
«Этого не знаю и понять не могу, и бесчисленное множество людей со мной тоже » ( Д30 ; 14: 216; курсив мой. — В. С .).
На возражение Алеши, что в мире много любви Христовой, которая способна любить подобных увечных, Иван заключает, что это «невозможное чудо». Эпитет «невозможное» делает категоричным его высказывание. Мысль, что взрослых нельзя любить, Иван повторяет несколько раз: «…никогда не мог понять, как можно любить своих ближних» (Д30; 14: 215), «Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда» (Д30; 14: 216), «Любоваться, но все-таки не любить» (Д30; 14: 216), «они отвратительны и любви не заслуживают» (Д30; 14: 216) — «в этом случае повторение, как правило, соединяется с постепенным усилением» [Ветловская: 54]. Иван говорит, что может любить ближнего отвлеченно, но не может вблизи; таким образом складывается необъяснимая ситуация, которую он пытается выразить и объяснить с помощью оксюморонов, таких же противоречивых и нелогичных: можно было бы любоваться человеком, если нищие были бы в шелковых лохмотьях, рваных кружевах, прося милостыню, грациозно танцевали. Взрослым Иван противопоставляет детей и говорит, что даже дурных детей можно любить вблизи. Говоря:
«Я тоже ужасно люблю деточек» ( Д30 ; 14: 217; курсив мой. — В. С .), —
Иван наречием «ужасно» гиперболизирует глагол «люблю», что усиливает противопоставление любви к детям и невозможности любви к взрослым. Он приводит целый ряд эпитетов, относящихся к Карамазовым: жестокие люди, страстные, плотоядные , при этом подчеркивает, что даже они очень любят детей, тем самым делая неоспоримым фактом безусловную любовь к детям. Также он поясняет Алеше, почему детей можно любить:
«Дети, до семи лет, например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой» ( Д30 ; 14: 217).
На фоне рассуждения о любви к детям Иван начинает с нарастающей эмоциональностью говорить о турках в Болгарии: «жгут» — «режут» — «насилуют женщин и детей» — «прибивают арестантам уши к забору» — «поутру вешают» ( Д30 ; 14: 219). Этот ряд Иван заканчивает тем, что «есть и родные штучки и даже получше турецких» — «наслаждение истязанием битья» ( Д30 ; 14: 219).
Еще одну градационную цепь Иван использует в истории о том, как мужик бил лошадь: «русскому ничего не стоить сечь лошадь» — «сечь по глазам» — «по кротким глазам» — «по плачущим кротким глазам» — «бить с остервенением» —
«больно бесчисленно» ( Д30 ; 14: 219). И на этом пике описания жестокости мужика к лошади Иван делает резкий переход: «можно сечь и людей». Но цель Ивана не просто сказать о жестокости человека к человеку, но дойти именно до детей: «господин и его дама секут собственную дочку» — «розгами» — «прутьями с сучками» ( Д30 ; 14: 219). Иван выстраивает логическую линию рассуждений: взрослых нельзя любить никаких и ни за что — детей можно любить всяких и безусловно (они прекрасны и невинны), но детям, порой, приходится страдать наравне со взрослыми — как это можно объяснить и где возмездие мучителям? В гуще историй о детских страданиях Иван спрашивает Алешу:
«Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну… что же его? Расстрелять?» ( Д30 ; 14: 221).
На что Алеша дает положительный ответ. Иван не просто обрадовался, он «завопил в каком-то восторге: Браво!» ( Д30 ; 14: 221). Подобная реакция говорит о том, что искуситель достиг своей цели: сдвинул-таки Алешу с его устоя.
Для манипулирования сознанием и большей убедительности своих мыслей Иван использовал тему «неотразимую» — страдания детей, а также различные речевые приемы: повторы, градацию, гиперболы, эпитеты, апелляцию к чужому мнению («бесчисленное множество со мной согласятся»), его разговор был продуман и логически выстроен. Если в речи Зосимы присутствие повествователей «третьего порядка» становятся аргументом теодицеи, то в речи Ивана оно же становится средством манипулирования сознанием Алеши. Главная проблема Ивана, по мнению прп. Иустина (Поповича) — это наличие эвклидовского неверующего ума, которому представляется все как проклятый, дьявольский хаос [Иустин (Попович): 232]. «Невозможно прийти к познанию Истины путем рационалистическим», а только именно «путем обретения любви, которая является сущностью Божией <…> любовь вводит человека в глубины Божии и делает его способным познать то, что для небоголюбивых людей неизвестно» [Иустин (Попович): 187]. Поэтому любовь — это еще одна неотъемлемая составляющая теодицеи. Именно из-за отсутствия любви
Ивану трудно понять и принять Божий мир, и все его слова о том, что «Карамазовы любят детей» (очевидно, также имея в виду себя) — лукавство: поднятая Иваном тема страдания детей является лишь средством манипуляции в желании убедить слушателя в своей богоборческой теории. Об этом говорят акцентированные Достоевским факты отсутствия сострадания или сочувствия к несчастным детям, которые окружали Ивана. От него не было никакой помощи или участия в судьбе Илюши Снегирева (в отличие, например, от Катерины Ивановны, которая передавала этой семье деньги). Лизу Хохлакову Иван презирал за ее письма, не делая снисхождения к ее детскому возрасту ( Д30 ; 15: 38). А ведь «это соучастие, эта жалость — драгоценность наша <…> когда общество перестанет жалеть слабых и угнетенных, тогда ему же самому станет плохо: оно очерствеет и засохнет, станет развратно и бесплодно» ( Д30 ; 22: 71).
Что мы и видим в жизни Ивана. О безразличности к чужим скорбям говорит и иронический оттенок слов, которыми Иван называет описываемые им страдания: «фактики», «шутки», «штучки», «анектодики», «ахинея», «картинка». Брошюрку о казни злодея он называет «прелестной», а про саму казнь говорит очень просторечно — «оттяпали-таки голову». Слово «жестокость» снабжает такими своеобразными эпитетами, как «художественная» и «артистическая». А некоторые истории истязаний, по признанию Ивана, он читает «из любопытства» ( Д30 ; 14: 221). В конце разговора с Алешей — он подтверждает свою безучастность к рассказанным выше страданиям:
«…не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать» ( Д30 ; 14: 222).
Как отмечает А. В. Скоморохов, «Иван отказывается от попыток теоретически постичь Бога» [Скоморохов: 127]:
«У меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Да и тебе советую об этом никогда не думать, друг Алеша, а пуще всего насчёт Бога: есть ли он или нет?» ( Д30 ; 14: 264).
Для Ивана «Бог необходим лишь для функционирования морального закона» (религия вытекает из морали) [Скоморохов: 126]. Попытки разобраться в «вековечных» вопросах «эвклидовским» умом безрезультатны, для постижения «запредельной», не вмещающейся в «земной закон» божественной истины необходимо иметь «неевклидов» разум [Тихомиров: 103] — это также одно из положений, помогающее осмыслить теодицею.
Значимым аспектом в осмыслении теодицеи, акцентирующим мысль на том, что наша жизнь не заканчивается лишь земным существованием, является мотив воскрешения, который содержится уже в эпиграфе романа:
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24).
Т. П. Баталова назвала эпиграф романа явлением «пасхального начала» [Баталова: 94]. С. М. Капилупи говорил о том, что именно чудо Воскресения Христова подтверждает «идею трансцендентного бессмертия» [Капилупи, 2017: 141], а идея бессмертия — величайшая милость Христа, «ибо все остальные «высшие» идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают» ( Д30 ; 24: 48).
В своем сне о Кане Галилейской среди гостей на брачном небесном пиру Алеша видит покинувшего землю старца Зосиму:
«Как… И он здесь?» ( Д30 ; 14: 327).
Словами о воскресении роман и заканчивается:
«…неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илю-шечку? — Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу всё, что было» ( Д30 ; 15: 197).
Другой немаловажный эпизод, раскрывающий с новой стороны тему теодицеи, — это встреча Ивана с чертом. В. Н. Захаров отмечал, что эта встреча — «ключевая фантастическая сцена», и Достоевский предваряет ее «смешным» сном Лизы Хохлаковой о чертях: сон Лизы и Алеши ( у Алеши «бывал этот самый сон» ( Д30 ; 15: 23)) — экспозиция будущего кошмара
Ивана, где тоже «игра», но не с чертями, а с чертом [Захаров: 50]. Черт является главным мучителем человека, автором многих страданий, он говорит, что без него ничего не будет:
«Вот и служу, скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу» ( Д30 ; 15: 77).
По замечанию С. А. Кибальника, мысль о необходимости зла Достоевский взял из книги «Единственный и его собственность» немецкого философа-бунтаря Макса Штирнера [Кибальник: 156]. Происшествия, о которых говорит черт, и есть те самые «фактики», которые образуют коллекцию Ивана и которые составляют человеческую трагедию, а также являются поводом к обвинению Бога, хотя по сути, «анекдоты» показывают лишь «мир дьявольский» [Ветловская: 157], наполненный злом и страданиями, и к Богу отношения не имеют. Черт явно одобрял взгляды Ивана, но как служебный дух, призванный истязать, пришел к нему, чтобы мучить. И, как видим, у Ивана после этого посещения начались горячка и сумасшествие. Р. Л. Бэлнеп считает черта «центральным, аллегорическим персонажем» в романе [Бэлнеп: 48]. И действительно, образ черта встречается на многих страницах романа: Федор Павлович размышляет, стащат ли его черти крючьями вниз; отец Ферапонт общается с ними и изгоняет их; Лиза Хохлакова заигрывает с ними во сне; Алеша говорит, что у него тоже бывают такие сны; в рассказе о луковке черти не пускали бабу из огненного озера. Незримое присутствие черта чувствуется в Смердякове, в «насекомом сладострастия», которое присуще Карамазовым; в искушениях, которые сопровождали Алешу; в мыслях о самоубийстве, о котором помышлял Митя. Для темы теодицеи этот эпизод важен тем, что убедительно показывает: «единственным творцом зла является дьявол, который постоянно и неустанно создает свою дьяволодицею при помощи дьяволу подчиненного интеллекта атеистов и дьяволу подчиненной воли анархистов» [Иустин (Попович): 121].
Мотив страдания является центром и структурирующим элементом концептосферы «Братьев Карамазовых» в целом [Азаренко: 52], и именно он позволяет понять теодицею романа: «мир познается как добро, потому что способен побеждать зло» [Бэлнеп: 22]. Достоевский проводит своих героев через разного рода страдания, показывая, что никто не может их избежать: в той или иной степени им подвержены все — от невинных детей до Ивана Карамазова, который сам выступал в роли мучителя, и богоустремленного Алеши. Основное положение в вопросе страдания — «созерцание Бога», от этого зависит и искупительный смысл страдания [Капилупи, 2019: 254]. Достоевский, по мнению Н. А. Вагановой, отрицает оптимистическую лейбницевскую теодицею, сутью которой является утверждение, что «зло есть необходимое условие добра» и всеобщей гармонии [Ваганова: 196]. Н. О. Лосский по этому поводу говорил, что «зло есть нечто недолжное и не необходимое» [Лосский: 178]. Познанию Божьей тайны мира помогают не только страдания, а также вера, причастность к Святым Дарам, молитва, исповедь и покаяние, любовь, милосердие. Страдание — результат грехопадения, который благодаря силе благодати может стать ступенькой к духовному очищению и спасению. Отвергая теодицею Лейбница, которая по сути является «оправданием зла» [Шестов: 210], Достоевский делает акцент на оправдании Бога: Бог не автор зла, зло вошло в мир вместе с первородным грехом, и во власти человека сделать выбор: отвергнуть Богом сотворенный мир, глядя на его несовершенство, или устремить свой взгляд на дивный Лик Христа и найти в нем «единственно убедительное оправдание жизни, единственно истинную и приемлемую теодицею и антроподицею» [Иустин (Попович): 249]. Также писатель показывает, что бунт против Бога и Божьего мира может быть губителен для человека. В романе видим, к каким последствиям приводит отрицание бессмертия: человек становится убийцей, вдохновляет на преступления другого, сходит с ума; идея опасна для окружающих и гибельна для ее носителя. Достоевский говорил в «Дневнике Писателя» 1876 года:
«Без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо» ( Д30 ; 24: 46).
-
С. А. Кибальник по этому поводу сделал «парадоксальное», но верное замечание: «В своих исходных точках позиция Ивана Карамазова совпадает с позицией Достоевского. Он
также убежден в незыблемой взаимосвязи веры в Бога и бессмертия души с нравственностью. Однако не обладая такой верой, он, в отличие от Достоевского, но вполне логично, по мнению писателя, провозглашает безнравственность» [Кибальник: 160]. Именно по этой причине теодицея Достоевского начинается с веры в бессмертие души — этой главной ценности в нравственном самоопределении человека, именно в состоянии веры человек получает способность «воспринимать мир как совершенное творение Бога» [Киселева: 123–124]. Без веры, напротив, все страдания кажутся бессмысленными и жестокими, и тогда, подобно Ивану, трудно принять этот мир с его несовершенством. При богобоязненном отношении «прожитое страдание может обратиться впоследствии в святыню для души» ( Д30 ; 25: 173).
Через художественное слово Достоевский смог донести до читателя мысль о чудовищности детских страданий, несуразности идеи непринятия Божьего мира, понимании беспощадной природы и истязательной функции черта (каким бы смешным он ни представлялся в видении Ивана). Достоевский не отрицает наличие в мире страданий, но показывает, что «во Христе страдание теряет свою горечь, обретает сладость и освящается, получает свое оправдание, становится необходимым средством спасения и совершенствования человека, становится очистилищем и наивысшей школой христианства» [Иустин (Попович): 247].
Список литературы Художественная теодицея в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
- Азаренко Н. А. Концепт страдание как основной репрезентант темы детства в творчестве Ф. М. Достоевского // Вопросы когнитивной лингвистики. Тамбов, 2010. № 2. С. 48–53.
- Аникин Д. А. Исповедальный жанр в эпоху постмодерна // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. Саратов, 2008. № 1. С. 3–7.
- Баталова Т. П. Поэтика «Эпилога» в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» // Проблемы исторической поэтики. 2017. Т. 15. № 3. С. 94–108 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/ redaktor_pdf/1506097137.pdf (24.09.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2017.4463
- Бэлнеп Р. Л. Структура «Братьев Карамазовых». СПб.: Академический проект, 1977. 144 с.
- Ваганова Н. А. Теодицея Лейбница и роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. М., 2008. № 18. С. 193–200.
- Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». СПб.: Пушкинский Дом, 2007. 640 с.
- Захаров В. Н. Фантастическое как категория поэтики Достоевского семидесятых годов // Жанр и композиция литературного произведения: межвуз. сб. Петрозаводск: ПГУ, 1981. С. 41–54.
- Иустин (Попович), преподобный. Философия и религия Ф. М. Достоевского. Мн.: Издатель Д. В. Харченко, 2007. 312 с.
- Кантор В. К. Ф. М. Достоевский, Вл. Соловьев, Августин // Ф. М. Достоевский и культура Серебряного века: традиции, трактовки, трансформации. М.: Водолей, 2013. 592 с.
- Капилупи С. М. Достоевский и Христианство: новые итоги исследования // Вестник РХГА. СПб., 2017. Т. 18. Вып. 2. С. 136–144.
- Капилупи С. М. Встреча «грешника» и «праведника» в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского // Вестник РХГА. СПб., 2019. Т. 20. Вып. 4. С. 252–264.
- Кибальник С. А. О философском подтексте формулы «Если Бога нет…» в творчестве Ф. М. Достоевского // Русская литература. 2012. № 3. С. 152–163.
- Киселева И. А. «Пророк» (1826) А. С. Пушкина и «Пророк» (1841) М. Ю. Лермонтова: сравнительная семантика мотивного комплекса // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 1. С. 111–129 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1582890894.pdf (24.09.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2020.6762
- Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание. НьюЙорк: Изд-во имени Чехова, 1953. 406 с.
- Скоморохов А. В. Проблема объяснения зла: от Канта к Достоевскому // Философия и общество. Волгоград, 2019. № 4 (93). С. 123–133.
- Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта / Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова; Гл. ред. чл.-корр. РАН Ю. Н. Караулов. М.: ИРЯ РАН, 2007. Вып. 3. 592 с.
- Тихомиров Б. Н О «христологии» Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. СПб.: Наука, 1994. Т. 11. С. 102–121.
- Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (глас вопиющего в пустыне. М.: Прогресс, Гнозис, 1992. 304 с.
- Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард. СПб.: Инапресс, 1998. 354 с.