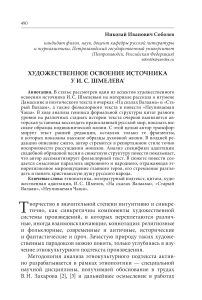Художественное освоение источника у И. С. Шмелева
Автор: Соболев Николай Иванович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.12, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен один из аспектов художественного освоения источника И. С. Шмелевым на материале рассказа о игумене Дамаскине и поэтического текста в очерках «На скалах Валаама» и «Старый Валаам», а также фольклорного текста в повести «Неупиваемая Чаша». В ходе анализа генезиса формальной структуры цитат разного уровня на различных стадиях истории текста очерков выявляется авторская установка воссоздать православный русский мир, показать высокие образцы подвижнической жизни. С этой целью автор трансформирует текст ранней редакции, оставляя только те фрагменты, в которых показаны высокие образцы духовной жизни. В поздней редакции описание сжато, автор стремится в репортажном стиле точно воспроизвести рассуждения монахов. Анализ специфики адаптации свадебной обрядовой песни в сюжетную структуру повести показывает, что автор десемантизирует фольклорный текст. В сюжете повести создается смысловая параллель церковного и народного, отражающая этнорелигиозное мироощущением главного героя, его стремление разглядеть и понять христианскую душу русского народа.
Этнопоэтика, литературный подтекст, цитата, художественная адаптация, и. с. шмелев, "на скалах валаама", "старый валаам", "неупиваемая чаша"
Короткий адрес: https://sciup.org/14748913
IDR: 14748913
Текст научной статьи Художественное освоение источника у И. С. Шмелева
Т в орчество в значительной степени интуитивно и синкретично, как синкретичны компоненты художественной системы произведений, в которых переплетаются различные, иногда взаимоисключающие, коннотации: религиозные и фольклорные, современные и античные, исторические и фантастические и проч. Зачастую природу таких художественных парадоксов можно понять, только углубляясь в изучение этнокультурного подтекста произведения.
Методология анализа этнокультурного подтекста активно разрабатывается в рамках этнопоэтики — специальной научной дисциплины, получившей обоснование в трудах В. Н. Захарова [2], [3] и дальнейшее осмысление в работах
И. А. Есаулова [4], [6], С. В. Шешуновой [9], Т. Г. Мальчуковой [7], Н. И. Соболева [8]. Литературный подтекст содержит наиболее устойчивые, характеризующиеся повторяемостью элементы художественной системы произведения, имеющей в значительной степени этнокультурную природу.
Изучение русской литературы в этом научном ракурсе показывает наличие в художественных произведениях устойчивых категорий — соборности [4], пасхальности [6], которые наряду с другими поэтическими, лексическими, фольклорными элементами формируют национальный образ мира [9].
Кроме указанных аспектов поэтики текста, важным направлением в изучении этнопоэтики русской литературы может быть признано выявление авторской целеустановки при отборе и творческом освоении документальных, литературных, фольклорных источников. В этом случае, как кажется, наиболее показательные результаты даст анализ генезиса формальной структуры цитат разного уровня на различных стадиях истории текста, а также в его сюжете.
Рассмотрим в этом, так сказать, этнопоэтическом ракурсе адаптацию рассказа о игумене Дамаскине, имеющего статус документального свидетельства, и поэтического текста в очерках «На скалах Валаама» и «Старый Валаам», а также фольклорного текста в повести «Неупиваемая Чаша»1.
Книга путевых очерков «На скалах Валаама» — первое большое опубликованное сочинение И. С. Шмелева. Сочинение, которое носит отпечаток юношеской духовной незрелости в сочетании с максимализмом. Сам Шмелев позднее называл книгу «юной, наивной, немножко, пожалуй, и задорной» (НВ, 99). Главный герой, он же повествователь, познает мир, искренне восторгается сдержанной красотой природы глухого острова, которая покоряет его полнотой жизни, преображающей валаамские скалы наперекор суровому северному климату. За природными красотами повествователь не замечает, а порой кажется, что не хочет замечать высокий строй христианской жизни насельников Спасо-Преображенского монастыря, которые тоже преображают северный остров, но в ином, неземном, измерении.
Повествователь рассуждает о многом, скрупулезно фиксируя все особенности быта насельников и островных мирян, но неизменно его рассуждения возвращаются к вопросу о подавлении воли в смирении, которое, по мнению повествователя, стирает в человеке индивидуальность, превращает его в раба идеи.
Закономерно, что лейттемой описаний в очерках становится сопоставление и противопоставление природы и обитателей острова, которые на фоне стилистически тонко выписанных картин природы все более предстают живыми мертвецами, подчинившими свою волю игумену. Неслучайно в очерках повествователь живописует галерею портретов настоятелей монастыря, сопровождая каждый примечательной подробностью. Например, один из самых почитаемых среди братии и богомольцев игумен Дамаскин «стихами проповѣди говорилъ…» (НВ, 231). Далее повествователь приводит это стихотворение, заключая с явной иронией: «Вотъ образецъ, которому могъ бы Кантемiръ позавидовать». И далее: «Душно было на Валаамѣ во времена Дамаскина». (НВ, 232)
Завершается эпизод неожиданно: смягчая тенденциозность, автор вводит семантический параллелизм:
Совсѣмъ гнилое дерево, упавшее на это мѣсто, можетъ быть, лѣтъ 20 назадъ. <…> Мнѣ больно и, скажу, страшно было сравнить это гнiющее дерево съ тѣми, что лежать не далеко отъ этой дороги, подъ деревянными гробницами, на старомъ кладбищѣ — подъ земляными бугорками… И мнѣ начинала представляться мысль, что не напрасна и жизнь схимонаховъ — отшельниковъ, не напрасны ихъ гробницы: онѣ научаютъ. Онѣ говорятъ о харак-терѣ, о тѣхъ попыткахъ, которыя употреблялъ человѣкъ, чтобы только достичь нравственнаго совершенства. (НВ, 233–234).
Через сорок лет И. С. Шмелев создает новую редакцию очерков «Старый Валаам», в которой переосмысливает свое юношеское произведение. Сопоставление фрагментов текста, в которых повествователь воспроизводит стихотворение игумена Дамаскина, дает представление о целеустанов-ке автора.
НВ
И такъ, братiе, — мiра бѣгите, Бога любите,
Съ совѣтомъ живите, своей воли не творите,
Молвы и разсѣянности удаляйтесь, Въ пустыню водворяйтесь.
Кто къ мiру пристрастится, Тотъ съ пустынею распростится. Онъ (пристрастившiйся къ мiру) всегда празднословiемъ всякаго готовъ уловлять
И молитву къ Богу отъ насъ отнимать:
Скучно ему о спасенiи души говорить,
Не хочетъ онъ и молитву творить, Не любитъ онъ постомъ и поклонами свое тѣло утруждать,
А всячески старается время всуе провождать.
Онъ въ томъ и находитъ себѣ утѣху, Какъ бы надѣлать людямъ побольше смѣху.
Много сегодня я, братiе, грѣшный, говорилъ,
Но самъ ничтоже предъ Господомъ благо сотворилъ.
Горе мнѣ грѣшному и сущу, благихъ дѣлъ неимущу,
Глаголющу, а не творящу, Учай другихъ — себя не учиши.
Увы, увы! душе моя, горе тебѣ!!! (232)
СВ
Много сегодня я, братіе, грѣшный, говорилъ,
Но самъ ничтоже предъ Господомъ благо сотворилъ.
Горе мнѣ грѣшному и сущу, благихъ дѣлъ неимущу,
Глаголющу, а не творящу.
Учай другихъ — себя не учиши.
Увы, Увы! душе моя, горе тебѣ!.. (130)
Автор сокращает текст, оставляя в конечном варианте четверостишие, выражающее покаянную идею; в ранней редакции эта идея скрыта под спудом наставлений, переданных тяжеловесным силлабическим слогом. И в целом в поздней редакции описание более сжато, автор, так сказать, более цитатен: он больше слушает сопровождающих его в пути насельников и повторяет их мысли, нежели анализирует сказанное и по-своему обобщает. Анализируемый фрагмент поздней редакции также заканчивается сжато, цитатно. Монах подытоживает: «Святой былъ человѣкъ. И другихъ, сла-быхъ, къ святости приводить старался» (СВ, 131). Так автор создает образ святого человека, смысл жизни которого духовное служение людям, а не подчинение воли других, обязанных ему по праву или положению, что прочитывалось в ранней редакции.
Иная форма адаптации текста встречается в повести И. С. Шмелева «Неупиваемая Чаша». Во второй главе встречается цитата «гулевой песни»:
НЧ
С’отчево вьюгòй-метелюшкой мететъ?
С’отчево не всѣ дорожки укрыëтъ? Одну-ю и вьюжинà не беретъ!
А какую вьюжинà не беретъ? Всю каменьемъ умòщеную, Все кореньемъ да съ хвòщиною! А какую метелюга не мететъ? Ой, скажи-ка, укажи, лѣсъ-боръ! Самаю ту, чтò на барскай дворъ! Чтобъ ей не было ни хожева, Ой, ни хожева, ни ѣзжева!
Ай, вьюга метелюга, заметай!
Ай, дѣвки, русы косы расплетай! (97)
ЧА4
З' отчево вьюгой-метелюжкой2 мететъ З' отчево да3всѣ дорожки укрыётъ?
Всѣ дорожки4 укрыетъ да не всѣ. Одную и вьюжина не беретъ.
Одную и метелюшка5.
А какую вьюжина да6 не беретъ?
Всю7 каменьемъ умощенную
Все кореньемъ да съ8 хвощиною. А какую это метелюга не беретъ. Ой, скажи-ка, укажи, лѣсъ–боръ9 Самую ту, что на барскій дворъ. Чтобъ ей не было ни хожева, Чтобъ не хожева, не ѣзжева
Эй, вьюга-метелюга, заметай
Ой, дѣвки, русы-косы расплетай. (л. 22 об.)
Сравнение с рукописью показывает, что текст песни И. С. Шмелев цитирует по памяти, почти не правя его. В рукописи написание приближено к подлинной диалектной огласовке.
В данном случае автор зафиксировал преобразование предлога <от> в <з>, который выступает в качестве протети-ческого согласного.
Писатель также использовал фонетический принцип для точной передачи диалектной огласовки: «укрыёт» в приведенном примере или: «А вотъ такъ … какъ? Не плотютъ и не плотютъ, достань его!11» (л. 19). Все это свидетельствует о том, что текст песни автор действительно слышал и сохранил в своей памяти, а затем достоверно воспроизвел.
Типологически этот текст восходит к обрядовой свадебной лирике, подобные песни исполнялись во время посада. «В восточнославянской свадебной обрядности посадом чаще всего называется обряд сажения невесты, жениха или обоих молодых на почетное место на свадьбе»[1]. Обряд включает ряд ритуалов, в том числе исполнение так называемых «заветных» песен. Обряд символизирует переход невесты в новый статус, конец прежней и начало новой жизни новобрачных. Эту песню главный герой повести, Илья Шаронов, поет вместе с другими ляпуновцами, когда возвращается с «под-монастырной» ярмарки, которая проводится в день престольного праздника главного храма Владычного монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
В контексте всего эпизода праздник Рождества Пресвятой Богородицы связан с народным гулянием. Автор создает хронотоп, который выражает христианское мироощущение народа, где церковный праздник неотделим от народного гуляния. Именно в таком народном православии формируется личность главного героя. В душе Ильи «подмонастырный» праздник запечатлелся образом русского мира, в котором соединились ощущения сытой воли и народного единения в крестном ходе с иконой Богородицы. Закономерно, что «запретная» фольклорная песня десемантизируется, теряет связь с обрядом, символизирует вступление в пору юности, начало нового этапа жизни.
Второй раз текст песни, очень кратко, тремя строками, цитируется ближе к концу повести: главный герой, будучи уже взрослым, идет по монастырской дороге, вспоминает юность и «гулевую-лѣсовую пѣсню» (128). «Радость неудержимая закружила Илью» (128), он видит монастырь и решает изобразить на его южной стене фреску Чудо о Георгии со змеем. Смысловая параллель, создаваемая повторным цитированием десемантизированного фольклорного текста, показывает, что решение главного героя продиктовано его этнорелигиозным мироощущением. Русская песня для Ильи — это, прежде всего, часть русского мира, в котором соединяются народное и церковное. В композиционном плане повести повторяющаяся цитата выполняет функцию маркера, выделяющего этапы жизненного пути главного героя.
Таким образом, христианский идейно-тематический и цитатный контекст является «общим авторским знамена-телем»12 для многообразных философских, публицистических, литературных, фольклорных смыслов текста.
Примечания
*
Статья подготовлена в рамках проекта № 14-04-00269 «Текстологическое изучение и подготовка к публикации рукописей художественных произведений И. С. Шмелева». РГНФ 2014–2016.
В тексте статьи произведения И. С. Шмелева цитируются с использованием следующих сокращений:
НВ — На скалах Валаама (путевые очерки). М.: Тип. Елизаветы Гер-бек, 1897. 261 с.
СВ — Старый Валаам. Прага: Тип. Иова Почаевского Владимирова, 1936. 162 с.
НЧ — Неупиваемая Чаша // Литературный сборник Отчизна. Симферополь: Рус. книгоиздательство в Крыму, 1919. С. 89–147.
ЧА4 — Черновой автограф повести «Неупиваемая Чаша», Четвертая редакция. НИОР РГБ 387.8.22. Л. 19 — 31 об.;
Далее было : несетъ
Вместо : да — было : ужъ ту
Далее было : да
Одную и метелюшка. вписано .
да вписано .
Вместо : всю — было : вся
Вместо : да съ — было : завощенною
Ой, скажи–ка, укажи, лѣсъ–боръ вписано .
Далее было : вотъ
Вместо : достань его! — было : чортъ его возьми
Вариация терминологического сочетания предложена в работе [4].
Nikolay Ivanovich Sobolev
Список литературы Художественное освоение источника у И. С. Шмелева
- Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. М., 2012. 936 с.
- Захаров В. Н. Православные аспекты этнопоэтики русской литературы//Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 2. С. 5-31.
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. М: Индрик, 2012. 264 с.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1994. С. 267.
- Есаулов И. А. Гипотеза А. Н. Веселовского о соотношении христианского/языческого в русском национальном сознании и современная
- наука//Об исторической поэтике А. Н. Веселовского: Сб. ст. Самара, 1999. С. 39-45.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругь, 2004. 559 с.
- Мальчукова Т. Г. Античные и христианские традиции в поэзии А. С. Пушкина. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. 253 с.
- Соболев Н. И. Повесть И. С. Шмелева «Неупиваемая Чаша»: творческая история, поэтика, текст. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. 304 с.
- Шешунова С. В. Национальный образ мира в эпопее А. И. Солженицына «Красное Колесо». Дубна, 2005. 111 с.