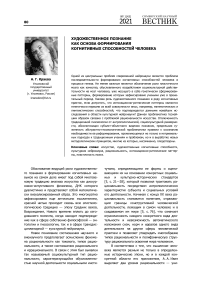Художественное познание как основа формирования когнитивных способностей человека
Автор: А. Г. Краева
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 1 (43), 2021 года.
Бесплатный доступ
Одной из центральных проблем современной нейронауки является проблема последовательности формирования когнитивных способностей человека в процессе генеза. Не менее важным является обозначение роли пластичности мозга как качества, обусловленного воздействием социокультурной действительности на мозг человека, уже несущего в себе генетически сформированные паттерны, формирование которых зафиксировано учеными уже в пренатальный период. Какова роль художественного познания в ряду когнитивных практик, если допустить, что интонационно-ритмические паттерны являются генетически первыми из всей совокупности иных, например, математических и лингвистических способностей, что подтверждается данными новейших исследований в области культурной нейронауки? Данная проблематика теснейшим образом связана с проблемой рациональности искусства. Отвлеченность традиционной гносеологии от антропологической, социокультурной размерности, абсолютизация субъект-объектного видения познания, предельная суженность абстрактно-гносеологической проблематики привели к осознанию необходимости ее реформирования, проявляющемуся не только в нетривиальных подходах к традиционным учениям и проблемам, но и в выработке новых методологических принципов, многие из которых, несомненно, плодотворны.
Искусство, художественные когнитивные способности, культурная нейронаука, рациональность, интонационно-ритмические паттерны, пластичность мозга
Короткий адрес: https://sciup.org/14119689
IDR: 14119689
Текст научной статьи Художественное познание как основа формирования когнитивных способностей человека
Обоснование ведущей роли художественного познания в формировании когнитивных навыков на самом деле имеет под собой многовековую традицию анализа искусства как дискурсивно-интуитивного феномена, ДНК которого дуалистично и представляет собой математически визуализированный образ. Это многократно зафиксировано еще античными мыслителями, красной нитью проходит сквозь всю эпистемологическую традицию — эпоху Средних веков, Возрождения, Нового времени вплоть до сегодняшнего момента, когда находит подтверждение как в сфере собственно философской — онтологии и гносеологии, так и в сфере трансдисциплинарной — культурной нейронауки.
Новое понимание соотношения научного и вненаучного предполагает осмысление феномена рациональности как такового, типов рациональности, а также соотношения рационального и иррационального. В связи с этим был выявлен так называемый социокультурный тип рациональности, характеризующийся обусловленностью научной деятельности социальными инсти- тутами, определяющими ее формы и оценивающими их на основании конкретных социальных и культурно-исторических стандартов [5, с. 21—28], который позволил трактовать рациональность посредством антропологических характеристик субъекта и социальных условий его деятельности. Начиная с конца XX века рациональность становится понятием, отражающим границы конструктивной человеческой деятельности, лежащим в самом человеке и в создаваемом им мире [5, с. 76], что означает ограниченность каждого конкретного вида деятельности и невозможность автоматического наложения схем, норм и идеалов одного вида деятельности на другие сферы человеческой практики и позволяет утверждать многообразие типов рациональности и полифоническую структуру рационального освоения мира человеком.
В соответствии с тем, что мышление человека является разным не только в определенные исторические эпохи, но и в каждой конкретной области его приложения, А. А. Ивин выделяет два уровня рациональности — уни- версальный и локальный [4, с. 158]. При этом универсальная рациональность предполагает соответствие требованиям логики и господствующего в каждую конкретную эпоху стиля мышления и действует только через локальную рациональность, определяющую требования к мышлению в конкретной частной области.
Глубинные изменения в сфере гносеологии в целом, а также пристальный интерес и всестороннее осмысление феномена рациональности привели к появлению целого ряда исследований о гносеологических закономерностях и об особенностях рациональности обыденного, мифологического и религиозного знания. Однако в отечественной философской традиции совсем небольшое количество работ посвящено выявлению познавательных функций и смыслов художественного творчества, логико-методологических оснований и рациональных особенностей искусства. Одной из причин данного обстоятельства является слишком узкая методологическая направленность большинства теоретических трудов по искусствознанию, которое в условиях отечественной традиции формировалось и эволюционировало в условиях практически полной изоляции от университетской науки, в отличие от западноевропейской традиции. Поэтому и философская проблематика искусства традиционно в России является предметом эстетики и рассматривается в соответствии с методологическими установками данной дисциплины в полном отрыве от меж- и трансдисциплинарных методологий.
Тем не менее дискурсивно-интуитивная специфика искусства больше не позволяет рассматривать его исключительно как мир чувственных ощущений и воображения. Данная позиция в рассмотрении искусства возможна для воспринимающего субъекта, для которого искусство может являться только источником эстетических переживаний, смыслов, направленных на удовлетворение его субъективных художественных потребностей. Благодаря постоянно осуществляющимся трансдисциплинарным исследованиям западноевропейских коллег внесены существенные коррективы в понимание такой фундаментальной формы познания, как ощущение. Выявлена его своего рода гетерогенность, когда чувственное познание является совокупностью не только образных, но и знаковых, а именно математических компонентов. Это в свою очередь повлекло за собой обоснование репрезентативного характера многих элементов и структур познавательной деятельности: «...чувственные модальности ощущений — звук, вкус, цвет, ощущение тепла, холода и др., определяясь природой анализаторов, являются в то же время знаковыми обозначениями физической природы раздражителей, которая недоступна непосредственно чувственному познанию и раскрывается лишь опосредованно, логическими и теоретическими средствами» [8, с. 19].
Если рассматривать искусство объективно, с точки зрения науки, то в искусстве существенны не сами закодированные в произведениях эмоционально-субъективные смыслы, а всеобщее и объективное значение данного явления в целом и в основных характеризующих его свойствах, отличиях. Искусство как познавательная система представляет собой «структурно-семантическое запечатление в художественном мышлении и творчестве — знания (курсив мой. — А. К.) своего времени, пути познания и его предпосылок в мировосприятии, свойственных знаковым системам эпохи, в число которых входят «языки» искусства» [3, с. 17]. Таким образом, искусство как целостность имеет в себе две взаимообуславливающие составляющие — интуитивно-эмоциональное и интеллектуальнофилософское, логически осмысленное и организованное отображение реальности.
Теперь уже можно утверждать, что искусство в целом является образцом локальной рациональности в терминологии А. А. Ивина [4, с. 160], что обусловлено наличием в нем системы категорий и понятий, служащих координатами художественного мышления; специфическим, присущим искусству набором методов обоснования, применяемых в данной области и образующих определенную иерархию; наличием критериев создания и оценки, анализа художественных произведений; наличием определенной системы ценностей, а главное — присутствующим в каждом художественном произведении математическим ядром, системно организующим любое художественное явление. Именно рациональная сторона искусства и обусловила появление, существование и эволюцию системы теоретического искусствознания.
В системе искусствознания методологически наиболее оснащенной на сегодняшний день областью является одна из его отраслей — музыкознание, располагающее наиболее значительным количеством развитых теорий и концепций. Одним из признаков рациональности музыкознания выступает его систематичность, выражающаяся в строгой иерархии уровней данной науки. Рациональная и эпистемическая ценность музыкального искусства определяется также его физико-математической природой.
Для характеристики рациональных особенностей музыкального искусства особой значимостью обладает понятие музыкально-теоретической системы, являющейся исторически сложившимся продуктом общественного сознания, который представляет собой целостную совокупность представлений о сложившихся в музыкальной практике закономерностях отбора и организации звукового материала, а также факторах, обусловивших эти закономерности [6, с. 11]. Это понятие не только суммирует данные специальных и прикладных музыкально-теоретических дисциплин, но также способно вывести их на высокий уровень абстракции, что позволит доказать на философском, гносеологическом уровне высокую степень рациональности музыкального искусства.
При анализе музыкально-теоретического знания необходимо принимать во внимание множественность форм связи теоретического знания с музыкально-художественной практикой. Единство теоретического и практического познания обусловлено сложностью отношений между практикой, теорией и объективной действительностью, которая является объектом познания для музыкально-художественной практической деятельности. Однако теоретическое музыкознание имеет своим объектом познания уже музыкально-художественные явления, то есть конечный продукт музыкально-практической деятельности как первого этапа познания действительности в специфической, художественной форме. Но это не означает, что музыкальная теория соотносится с объективной действительностью только опосредованно, через практику. Музыкальная теория является научнопознавательной деятельностью, а значит, в процессе этой деятельности осуществляется идеализация объекта исследования — в данном случае форм художественного отражения действительности. Данное свойство теоретического мышления обусловливает возможность возникновения в теоретических концепциях некоего идеала музыкальной практики.
В свою очередь, музыкальная практика дает образцы логически совершенных форм музыкального мышления, чем обусловливается рациональная сторона художественного творчества. В некоторых случаях композиторы сами описывают ход логических рассуждений и рациональную сторону создания произведения. Нередко это выливалось в написание специальных, теоретических трудов, обобщающих индивидуальный творческий опыт и представляющих собой индивидуальную концепцию творчества
(таковы, например, концепции О. Мессиана, П. Хиндемита, К. Штокхаузена, Э. Денисова и др.). Эти концепции образуют исторически складывающиеся совокупности теоретического знания и, безусловно, должны рассматриваться как проявление не только субъективного, но и, главное, музыкально-теоретического мышления.
Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев композиторы не оставляют дискурсивных обобщений своего практического опыта, однако произведения их творчества являют собой четкий образец логики художественного мышления. При этом музыковеду бывает достаточно просто описать данное явление в понятиях и категориях, принятых в определенную историческую эпоху музыковедческим эпистеми-ческим сообществом, чтобы получить целостную, завершенную теоретическую концепцию. Доказательством подобных взаимосвязей между музыкальной теорией и практикой может служить сопоставление деятельности Ж.-Ф. Рамо и И. С. Баха. Проводя параллель между теорией Рамо и особенностями гармонического мышления в разных странах эпохи Барокко, Г. Пишнер пишет: «…проблема гармонии в это время была решена Рамо в первую очередь в сфере теории, в то время как Бах предпринял практическое решение в совершеннейшем, систематическом и наполненном глубоким идейным богатством "Хорошо темперированном клавире"» (цит. по: [6, с. 10]).
Таким образом, необходимо признать чрезвычайно важную, равнозначную интуитивной роль рациональных сторон художественного творчества. Более того, они являются проявлением и обусловлены господствующей в каждый исторический период парадигмой мышления. При этом следует отметить, что именно рациональный момент творчества — тот центростремительный вектор, который делает возможным не только осмысление в целостном общекультурном контексте произведения искусства, а также анализ завершенного произведения, но и, что доказано исследованиями в области нейронауки, организует художественное мышление субъекта в момент его написания (сочинения) художником, а значит, системно организует интуитивную, чувственную компоненту мышления, делая возможной его конкретную визуализацию, что позволяет наделять художественное мышление высочайшим когнитивным статусом.
Поиск и анализ конкретных нейробиологи-ческих детерминант когнитивной взаимообусловленности аналитических, вербальных и интуитивных навыков мышления на примере кор- релятивных взаимосвязей математики и искусства в аспекте сопряженности концептуального осмысления современных (нейро)биологических открытий с идеями, предложенными в контексте энактивизма и инкорпорированными из области нейрокогнитивных исследований в область искусствознания и математики (открытие феномена пластичности мозга), позволяет выявить нейрофизиологические детерминанты механизма художественно-когнитивного преломления ряда феноменов, имеющих математическую природу — фрактальное искусство, проективная геометрия Ж. Дезарга, живопись эпохи Возрождения, стереогноз в музыке, Евклидов ритм и ряд других [2].
Детальный и многоуровневый анализ феномена интонационно-слухового восприятия, начиная с самого раннего, пренатального периода онтогенеза, показал, что культура возбуждает определенные интонационно-ритмические слуховые паттерны, закрепленные в структурах мозга, которые играют важнейшую роль в формировании и функционировании когнитивных процессов, связанных отнюдь не только с художественным творчеством. Именно они оказываются ключевыми и, по сути, первичными предикторами целостной системы когнитивных способностей человека — аналитических, про-томатематических, математических и лингвистических на самых начальных этапах онтогенеза (как в пренатальный, так и в постнатальный периоды).
В период раннего онтогенеза роль интонационно-знаковых моделей в процессе генезиса и развитии интеллектуальных когнитивных структур трудно переоценить, по крайней мере, в их языковой основе, поскольку это закреплено культурно во всех цивилизациях. Кроме того, это единственный (кроме тактильного) канал коммуникации матери и младенца, а шире — культуры и формирующихся нейрофизиологических структур и интеллектуальных функций младенца. А значит, механизм интонирования и синестезия при восприятии ритмической организации музыкальных интонаций — первоосновы музыки, являющиеся фундаментом, на который впоследствии опираются навыки вербального и абстрактного мышления. Именно музыка, а точнее, лежащая в ее основе интонационная природа уникальна и незаменима никакими иными когнитивными инструментами, а в период раннего онтогенеза является единственным доступным и эффективным способом реализации цели когнитивного, интеллектуального развития — способом накопления и формирования врожденных генетических паттернов, которые впоследствии, в процессе взаимодействия с социокультурной средой, обусловливают качественные характеристики не только всей совокупности когнитивных способностей человека, но и его мировоззренческий тезаурус.
Кроме того, в исследовании удалось показать, что именно музыкальный интеллект во многом несет ответственность не только за неординарные способности человека к иным, различным видам искусства, качественные элементы которых как бы закодированы в музыкальных интонациях, в звучании музыки, что обусловлено пространственными эффектами музыки, ее колористическими свойствами, архитектоникой и многообразием темброво-акустической и ритмической фактуры, которая является главным связующим звеном между смыслом, идеей и их восприятием ее другими людьми, но и за формирование эвристического потенциала относительно иных видов когнитивных видов активности: логико-математической, лингвистической и др.
Таким образом, генетические программы, образованные всей совокупностью паттернов слуховой стимуляции, воспринятых мозгом как в пренатальный, так и в постнатальный периоды онтогенеза, выполняют роль априорных, генетически предзаданных музыкально-слуховых когнитивных элементов. Это те врожденные нейронные механизмы, которые позволяют не только осознавать собственную принадлежность к определенной этнической группе, но и воспринимать музыку как механизм осмысленного и «направленного» когнитивного процесса, формирующего человека как представителя определенной культуры. Данные механизмы обеспечивают константность музыкально-слуховых предпочтений представителя того или иного этноса, а также характер (качество) музыкальных вкусов представителя определенной социальной группы [7].
Тем самым появляется возможность осмысления когнитивных процессов, связанных с музыкальным творчеством и его восприятием в терминах деятельностного трансцендентализма. Впервые в отечественной и зарубежной культурной нейронауке удалось скорректировать представления о соотношении априорного и апостериорного в познавательной деятельности, а также выявить конкретные грани и перспективы совместимости Кантианской программы исследований с формирующейся областью нейроэстетики. Культура воспроизводит себя посредством различных видов деятельности, включая музыкальную. С одной стороны, опре- деленные нейроструктуры (модули) являются врожденными, а с другой — некоторые нейроструктуры формируются (в формате, например, «импринтинга») и/или видоизменяются в результате той или иной деятельностной активности. И те и другие между тем выступают предпосылками восприятия и препарирования реальности, отсылая исследователей их механизмов к прочтению идей об априоризме И. Канта в контексте современной нейронауки. Музыка оказывается важным компонентом целостной системы «мозг — социум — культура», роль которой особо значима на начальных этапах жизни человека. Именно данные паттерны выступают предпосылками восприятия и препарирования реальности, понимание природы и механизмов функционирования которых возможно в формате прочтения идей И. Канта об априоризме в контексте современной нейронауки, имея в виду трансцендентализм деятельностного типа.
Таким образом, путем выявления и анализа конкретной детерминанты формирования когнитивных способностей человека на самом раннем этапе онтогенеза — феномена музыкальности, понимаемой как совокупность интонационноритмических паттернов, выступающих в процессе нейрогенеза предикторами ряда важнейших когнитивных способностей, удалось показать, что именно данный феномен обладает статусом универсалии человеческого бытия, которая является первичным неотъемлемым нейрофизиологическим фактором формирования интеллекта, а именно аналитических, вербально-логических и лингвистических компонент мышления. Это в свою очередь позволило доказать особую значимость и высочайший статус искусства в процессе тех достижений современной нейронауки, которые обладают первостепенной важностью для развития эпистемологии, а именно в процессе переосмысления и трансформации принципа когнитивной универсальности субъекта познания, статуса «ситуационного» и «воплощенного» знания, ослабления позиции лого-центризма западной философской традиции и выработки оснований «гибкой» рациональности, обозначения границ деантропологизации знания и перспектив концепции экологии разума.
Анализ числовой природы ритмической компоненты врожденных онтогенетических структур дал возможность показать общие точки роста художественных, протоматематических и математических когнитивных способностей в процессе онтогенеза. Интонационно-слуховые паттерны имеют в своей структуре ритмический элемент, организующий интонационно-слуховую информацию во времени. Есть достаточные основания полагать, что именно он является еще одним нейрофизиологическим механизмом, который отвечает за формирование так называемого интуитивного чувства числа у человека (Approximate Number Sense). Оно понимается как умение осознавать небольшое количество предметов, дискриминировать и сравнивать наборы объектов без использования символической числовой системы и точного подсчета, то есть не задействуя зрительные механизмы. Поэтому и закономерности типа Вебера — Фехне-ра, учитывая результаты исследований процессов шкалирования, вполне могут претендовать на статус универсальных, поскольку отражают реакцию едва ли не любых сложных когнитивных систем (включая, например, музыкальные) на внешние сигналы (стимулы, раздражители).
Предположение о существовании нейрофизиологических механизмов, которые при осуществлении целенаправленного восприятия всей совокупности звукового потока младенцем задействуют самые разные модусы мышления (интонационно-слуховые, пространственно-образные, а также формально-логические, вербальные компоненты) одновременно в рамках принципиально единого когнитивного пространства, дало нетривиальные результаты, достигнутые в понимании единства структуры когнитивного пространства. Они подтверждают, что для осуществления восприятия интонационно-слуховых импульсов и выработки соответствующих реакций («переживаний») мозг младенца обрабатывает образные, интонационные, ритмические и вербальные стимулы усилиями нескольких секторов и нейронных центров, независимо от фактора преобладания того или иного полушария головного мозга, в единой когнитивной зоне. Об этом свидетельствует, например, феномен синестезии.
Полученные результаты исследований дают основание предполагать вполне вероятную в дальнейшем существенную трансформацию ряда фундаментальных представлений эпистемологии, методологии и философии науки, а соответственно, интерпретацию процессов социокультурной, деятельностной и нейрофизиологической детерминации активности познающего субъекта, а также определяют перспективы совместимости нейронауки с установками Кантианской программы исследований, что соответствует идее биокультурного со-конструктивизма (концепция В. А. Бажанова) [1].
На примере функционирования математических моделей как неотъемлемого структури- рующего элемента когнитивного каркаса всей совокупности видов искусства, определяющего его дискурсивную специфику, проблема коэволюции науки и нерациональных сфер культуры, а также интегративной взаимосвязи когнитивных структур науки и искусства на уровне общекультурной эволюции познания находит решение в установлении факта взаимной нераздельной детерминации логико-аналитических компонент мышления и творческой интуиции. Таким образом, инкорпорирование идей нейронауки в область эпистемологии искусства трансформирует существующие представления о нейробиоло-гической детерминации природы процесса познания как в области математики, так и в области искусства. Установление данной конгруэнтной взаимозависимости придает действительное значение априорным основаниям не только математического, но и художественного творчества с позиций феномена субитации («чувства числа», открытого S. Dehaene), нейробиологи-ческой детерминации фрактального искусства, закона «золотого сечения», проективной геометрии Ж. Дезарга в живописи эпохи Возрождения, феномена стереогноза в музыке, в основании которого лежат нейрофизиологические особенности мозга и нервной системы человека.
Подтвержденность в современной культурной нейронауке факта нейробиологической де- терминации указанных особенностей познавательной деятельности в процессе математического творчества, в моменты инсайтов, осуществления открытий в области математики делает обоснованным поиск нового аспекта концепции психологизма, имея в виду психологическую (и онтогенетическую) нагруженность ее результата, а также дает основание показать осуществление подобной проекции основополагающих идей концепции трансцендентализма И. Канта на область формирующейся нейроэстетики, что соответствует идее биокультурного со-конструк-тивизма.
Данные результаты привнесли в настоящее исследование известную долю оригинальности, новизны и эвристичности, поскольку явились существенным продвижением в направлении одного из заявленных векторов проекта, связанных с исследованием механизмов функционирования креативного мышления и работы творческой интуиции, логики творчества и способов развития и тренировки креативного мышления. Это своевременный, закономерный и необходимый шаг на пути исследований в эпистемологии креативности (становление нейроэстетики), философии научного поиска и исследовании феномена гениальности, а также в разработках по созданию искусственного интеллекта.
Список литературы Художественное познание как основа формирования когнитивных способностей человека
- Бажанов В. А. Социум и мозг: биокультурный со-конструктивизм / В. А. Бажанов // Вопросы философии. — 2018. — № 2. — С. 78—88.
- Бажанов В. А. Музыка под углом зрения биокультурного со-конструктивизма / В. А. Бажанов, А. Г. Краева // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. — 2020. — № 56. — С. 85—98.
- Бергер Л. Г. Эпистемология искусства / Л. Г. Бергер. — М. : Информационно-издательское агентство «Русский мир», 1997. — 432 с.
- Ивин А. А. Рациональность [Обсуждаем статью «Рациональность» / В. П. Филатов, А. Л. Никифоров, А. А. Ивин, В. Н. Порус] / А. А. Ивин // Эпистемология и философия науки. — 2005. — Т. II, № 2. — С. 153— 167.
- Касавин И. Т. Рациональность в познании и практике : критический очерк / И. Т. Касавин, З. А. Сокулер. — М. : Наука, 1989. — 192 с.
- Котляревский И. Музыкально-теоретические системы европейского искусствознания. Методы изучения и классификации / И. Котляревский. — Киев : Музична Украïна, 1983. — 158 с.
- Краева А. Г. Роль интонационно-слуховых паттернов в развитии когнитивных способностей человека / А. Г. Краева // Вестник Тверского государственного университета. Серия Философия. — 2020. — № 1(51). — С. 16—31.
- Микешина Л. А. Новые образы познания и реальности / Л. А. Микешина, М. Ю. Опенков. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. — 240 с.
- Мозгот В. Г. Музыкальный импринтинг как фактор проявления ранней художественной одаренности личности / В. Г. Мозгот // Мир психологии. — 2016. — № 5. — С. 176—185.
- Минков Е. Г. Мотивация: структура и функционирование / Е. Г. Минков. — Дубна : Феникс, 2007. — 416 с.