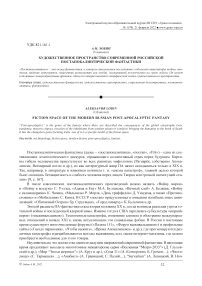Художественное пространство современной российской постапокалиптической фантастики
Автор: Лобин Александр Михайлович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (78), 2022 года.
Бесплатный доступ
«Постапокалиптика» - это жанр фантастики, в котором описывается последствия глобальной катастрофы (войны, пандемии, падения метеоритов, нашествия инопланетян или зомби), поставившей человечество на грань гибели. Он имеет устойчивые жанрообразующие признаки, одним из которых является специфическая модель художественного пространства.
Художественная футурология, художественное пространство, современная беллетристика, постапокалиптика, фантастика
Короткий адрес: https://sciup.org/148324012
IDR: 148324012 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Художественное пространство современной российской постапокалиптической фантастики
Постапокалиптическая фантастика (далее – «постапокалиптика», «постап», «ПА») – одна из составляющих эсхатологического дискурса, отражающего коллективный страх перед будущим. Картины гибели человечества присутствуют во всех развитых мифологиях (Рагнарёк, собственно Апокалипсис, Всемирный потоп и др.), но как литературный жанр ПА начал складываться только в XIX в. Так, например, в литературе и живописи возникла т. н. «школа катастроф», главной целью которой было «показать беззащитность и слабость человека перед лицом Творца или грозной всемогущей стихии» [9, с. 167].
В числе классических постапокалиптических произведений можно назвать «Войну миров» и «Войну в воздухе» Г. Уэллса, «Адама и Еву» М.А. Булгакова, «Вечный хлеб» А. Беляева, «Войну с саламандрами» К. Чапека, «Мальвиль» Р. Мерля, «День триффидов» Д. Уиндема, а также «Противостояние» и «Мобильник» С. Кинга. В СССР «постап» присутствовал в описании погибших иных цивилизаций: «Обитаемый Остров» бр. Стругацких, «Город наверху» К. Булычева и др.
Эпохой расцвета ПА-фантастики стала вторая половина XX в., когда возникла реальная угроза тотальной войны и последующей ядерной зимы. Именно тогда в США зародилась субкультура «сюрвай-веров» («выживальщиков»). Техногенные катастрофы, изменение климата и обострение международных отношений в начале XXI в. вновь актуализовали эти социальные фобии. В России в настоящее время существуют многочисленные форумы («Палата 151», «Форум выживальщиков») и профильные сайты («Гнездо параноика», «Чтобы выжить», «Время Апокалипсиса» и др.), где прогнозируются различные катастрофы и разрабатываются методы выживания, есть также интернет-магазины, где можно приобрести необходимые для этого товары.
Неудивительно, что постап стал одним из ведущих направлений современной фантастики. В настоящее время продолжают выходить многотомные межавторские серии «Вселенная “Метро-2033”» (Д. Глухов-ский и др.), «Мир “Эпохи мертвых”» (А. Круз и др.), «Zона 31» (А. Конторович, Б. Громов…), «Чистилище» (С. Тармашев»…), «Анабиоз» (А. Гравицкий, С. Палий…), “Survarium” (А. Левицкий, В. Ноч- кин…). Достаточно близки по содержанию циклы романов о «локальных катастрофах», описанных в аналогичных сериях “S.T.A.L.K.E.R.”, “Z.O.N.A.”, “S.T.I.K.S”, “SECTOR”, «Технотьма», «Зона смерти» и др. Широко известны авторские циклы А. Круза («На пороге тьмы»), В. Денисова («День G», «Антибункер»), А. Рыбакова («Зона Тьмы»), Б. Громова («Терский фронт»), Э. Веркина (“INFERNO”), О. Верещагина («Горны империи», «Николай Романов»), Б. аль Атоми («Мародер»), Я. Валетов («Ничья земля») и многих других авторов. Компьютерные игры “Fallout”, «Метро 2033», “Escаpe from Tarkov” и др. образуют отдельный жанр “Survive the Horror”. Количество ПА-фильмов, таких как «Безумный Макс», «Обитель зла», «Водный мир», «28 дней» и сериалов типа «Ходячие мертвецы» просто не поддается подсчету.
Эсхатологическая проблематика привлекает внимание многих исследователей [1, 3, 4, 10]. Во многих случаях именно художественные произведения выступают в роли исследуемого материала [6, 8]. Однако, в литературоведении основное внимание уделяется жанру антиутопии и романам-катастрофам [2, 9], а постапокалиптическая фантастика литературоведами практически не исследована. Высокий интерес к современной эсхатологии, а также необходимость изучения жанровой парадигмы художественной футурологии обеспечивает актуальность данной работы. Анализ художественного пространства, произведенный в данной статье, позволяет решить несколько задач:
-
‒ расширить общее представление о моделях художественного пространства в литературе;
-
‒ уточнить жанровые границы постапокалиптической фантастики;
-
‒ конкретизировать образ будущего у современных фантастов.
Цель работы – исследовать топос избранных ПА-произведений и описать модели художественных пространств, представленных в наиболее известных постапокалиптических романах. Материалом исследования стали наиболее популярные циклы: «Метро 2033» Д. Глуховского и «Эпоха мертвых» А. Круза, а также отдельные произведения А. Конторовича, Б. Атоми, В. Денисова, Э. Веркина, А. Шаханова и др.
Предварительно хотелось бы уточнить жанровые черты постапокалиптического романа. В плане сюжета ведущим жанрообразующим признаком ПА является событие Катастрофы в обозримом прошлом, итогом которой становится духовная и технологическая деградация человечества, разрушенные города, борьба за ресурсы, деление на свободных и рабов или выживших и мутантов [10, с. 48]. Это типичные ретрофутуристические миры, т. к. даже в произведениях, где описано достаточно отдаленное посткатастрофное будущее, прежняя цивилизация как правило не возрождается, но обязательно сохраняются отдельные последствия катастрофы (Д. Уиндем «Отклонение от нормы», С. Коллинз «Голодные игры», «День свершений» В. Жилина, А. Круз «Рейтар» и др.)
Содержание современных ПА романов ориентировано на сюжеты компьютерных игр, в которых основными игровыми действиями являются стычки с бандитами и мутантами, сбор трофеев («мародерка») и торговля ими, а основным сюжетным событием становится выполнение квеста.
Обобщенно художественный мир постапа можно представить как конгломерат небольших поселений и кочевых групп, живущих по законам раннего феодализма. Следует отметить, что авторы традиционно предпочитают описывать ретрофутуристические социумы, отстоящие от момента Катастрофы не более, чем на одно поколение. Это самая востребованная хронология, т. к. она позволяет сохранить живую память о прошлом и фрагменты материальной культуры (огнестрельное оружие, автомобильный транспорт, консервы и пр). Присутствуют также остаточные последствия Катастрофы (безлюдные пустоши, опасные развалины, радиация и т. п.) и агрессивные существа (зомби, мутанты, одичавшие животные).
В качестве эталонного постапокалиптического романа можно рассматривать «Метро-2033» Д. Глуховского, в котором изображается метро, где через двадцать лет после ядерной войны обитают уцелевшие москвичи. На поверхности – радиация и мутанты, на нижних уровнях и в заброшенных тоннелях – крысы, чудовища и смертельно опасные аномалии. Люди кормятся тем, что выращивают свиней и грибы под землей, другие необходимые ресурсы добывают наверху т. н. «сталкеры». Крысы – дежурное блюдо, основное средство платежа – патроны. Социум функционирует по уже описанной модели: каждая станция стала отдельным государством, которое торгует или воюет с остальными. Поражает политическое многообразие мира: здесь есть торговая республика Ганза, объединяющая станции кольцевой линии, есть коммунистическая Красная линия, есть также фашисты, анархисты и всевозможные сектанты. Все это вместе напоминает некий социополитический карнавал.
Общий обзор художественного пространства постапокалиптической фантастики дает двойственное впечатление: с одной стороны, пространство ПА достаточно специфично, т. к. оно обладает собственной эстетикой и ярко выраженной атрибутикой (особенно заметной в кинематографическом по-стапе), а с другой – традиционный набор структурных элементов пространства, таких как «защищенные поселения» или «дикие земли» на первый взгляд не является уникальным. Скорее, это традиционный набор любого приключенческого романа. Напрашиваются вопросы: отличаются ли радиоактивные пустоши от прерий, есть ли разница между кровожадными индейцами и разумными мутантами, присутствуют ли общие черты между станциями Глуховского и рыцарскими замками В. Скотта? Для рассмотрения этих вопросов следует обратиться к анализу исследуемых текстов.
Художественное пространство, как и пространство географическое, обладает рядом оппозиций-характеристик, которые могут быть использованы для его анализа. Так, первой такой характеристикой следует считать его структуру: «целостное или фрагментарное», «замкнутое или открытое», «одно или многоуровневое». Во вторую очередь необходимо оценивать качественные характеристики: «извест-ное/неизвестное», «опасное/безопасное», «проходимое/непроходимое», «доступное/труднодоступ-ное», «враждебное/лояльное», «упорядоченное/неупорядоченное» и пр. Особенно важна ценностная составляющая, где универсальной категорией можно считать оппозицию «свое/чужое» пространство. Кроме того, нельзя не учитывать функциональную роль топоса в произведении, т. е. его роль в организации сюжета и читательской рецепции.
Эталоном для оценки художественного пространства постапа может служить описанный топос современного условно благополучного мира. В качестве точки отсчета можно использовать принципиальную возможность человека проживать и путешествовать в одиночку без оружия и специальной подготовки. Очевидно, что и в современном мире далеко не все регионы одинаково доступны и безопасны. Тем не менее, мы исходим из предположения, что в настоящий момент на Земле не осталось принципиально недоступных и неизвестных мест, а для путешествия из Петербурга в Москву не требуется специальных навыков, оружия и колонны бронемашин.
Первое, что отличает пространство постапокалиптическое от «условно нормального» – его фрагментарность и непрозрачность. В постапе мир упорядоченный приходит в хаотическое состояние и раскалывается на неоднородные и нестабильные фрагменты, живущие по собственным законам. У этого мира нет центра и периферии, он становится труднопроходимым и непредсказуемым. Для сравнения: Филеас Фогг, герой романа Ж. Верна, объехал вокруг света за восемьдесят дней по заранее рассчитанному маршруту и расписанию. Ему часто приходилось подвергаться опасностям и преодолевать препятствия, но, тем не менее, удалось выдержать график, причем главным его оружием стала чековая книжка, а не револьвер. Кроме того, его дом в Лондоне ждал его в полной сохранности и Фоггу было куда возвращаться с молодой женой.
В постапокалиптическом мире такое путешествие в принципе невозможно – здесь вооруженные герои передвигаются, как правило, наугад от одного укрепленного поселения до другого и желательно – в составе группы. Так, Артем, герой романа Д. Глуховского «Метро-2033» шел пешком от родной станции «ВДНХ» до «Библиотеки имени Ленина» около месяца. За это время он много раз подвергался смертельной опасности: сначала чудом не погиб в аномалиях на перегоне между «Алексеевской» и «Рижской», а затем и у «Китай-города»; на «Тверской» его приговаривают к смерти за убийство; на «Павелецкой» Артем попадает в долговое рабство, затем бежит оттуда и т. д. Следует отметить, что действительно безопасных комфортных условий для жизни в метро нет – доминируют темнота, антисанитария, голод, холод и всеобщая агрессия. Подобная ситуация в постапе является нормой.
Главный герой трилогии «Я! Еду! Домой!» А. Круза из цикла «Эпоха мертвых» в условиях свершившегося зомби-апокалипсиса должен добраться из штата Аризона домой в Подмосковье. На это путешествие у него уходит ровно четыре месяца. В процессе он много раз сталкивался с бандитами, убил множество зомби и мутантов, трижды был ранен и потерял обоих спутников. Он передвигался на машине, самолете, корабле, опять на машине, затем снова на корабле и вновь на машине, и каждый раз был вынужден выбирать дорогу наугад через мертвый мир – в нормальном «докатастрофном» мире он мог бы долететь с пересадками без особых проблем за сутки.
Большую часть пространства в ПА-мире занимают «дикие территории» – обжитые некогда места, где еще сохранились дороги, мосты и заброшенные постройки. Они, в принципе, пригодны для жизни, но здесь отсутствуют закон и порядок, тут можно попасть в бандитскую засаду или аномальную ловушку, подвергнуться нападению мутантов или диких животных. «Дикие территории», в то же время, является значимым источником ресурсов: в брошенных машинах, квартирах, магазинах и складах можно разжиться бензином, оружием, одеждой, продуктами и т. д.
В плане некоторых структурных характеристик (проходимости, доступности, целостности и прозрачности), а также в плане безопасности эти «дикие территории» мало чем отличаются от неизведанных земель в приключенческих романах. Так, спасители капитана Гранта из другого романа Ж. Верна прошли вокруг света через три материка и несколько островов, где столкнулись с бандитами, людоедами и пиратами, преодолевали горы и пустыни, едва спаслись от наводнения, сталкивались и с хищниками.
Однако здесь есть, на наш взгляд, различия качественного характера. В классическом приключенческом романе все дикие земли представляют собой периферию цивилизованного мира, либо пересечение с другой, первобытной цивилизацией. С дикарями можно как-то договариваться и сосуществовать, а вот с мутантами это уже невозможно. Кроме того, неявно предполагается, что в неоромантическом приключенческом романе все дикие земли когда-нибудь станут цивилизованными и эстетика пространства здесь пронизана героической романтикой фронтира. Постапокалиптические миры, в свою очередь, строятся на романтике выживания и эстетике гибели. Эти различия влекут за собой существенные различия в мотивации героев и магистральном сюжете.
В качестве сравнительно безопасных и упорядоченных локаций в ПА выступают укрепленные поселения. Их номенклатура достаточно широка: от скрытых подземных убежищ до торговых поселений на месте уцелевших городов. Все они отличаются закрытостью и повышенной защищенностью: блокпосты, стены, колючая проволока, огневые точки и т. д. Апокалиптическая специфика присутствует и здесь, но в целом они мало отличаются от защищенных поселений любого фронтира. Эти пространства можно считать условно «своими», здесь герои могут получить убежище, необходимые товары и помощь. Следует отметить большие различия в техническом уровне и технологиях: в одних социумах люди почти одичали и даже огнестрельное оружие для них большая ценность, в других сохранились электричество, связь и высокотехнологичная медицина. Такова, например, разница в уровне жизни между Полисом, Ганзой и большинством других станций «Метро-2033».
Действительно специфичным типом пространства в постапе являются т. н. «зоны»: радиоактивные пустыни, аномальные районы, «замертвяченные» города и другие эпицентры Катастрофы. Они в принципе не годятся для жизни, являются источниками радиации и рассадником мутаций. Здесь действуют иные законы иной природы – прообразом всех этих «зон» и «пустошей» является «хармон-тская зона» из романа бр. Стругацких «Пикник на обочине». Современные авторы добавили к аномалиям всевозможных мутантов, причем наиболее страшными из них являются мутанты, получившиеся из бывших людей (зомби, мьюты, психи и пр.). В то же время эти «зоны» могут являться источником ценных «артефактов» и знаний. Эти пространства принадлежат, скорее, к нечеловеческому миру, что роднит жанр ПА с произведениями мистическими и фэнтезийными, где также могут присутствовать фрагменты «иного мира», как, например, в «мирах Ктулху» Г. Лавкрафта.
В качестве типичного примера такой «зоны» также можно рассматривать Москву в «Метро-2033». Трудно понять, какой именно боевой катаклизм поразил Москву в этом мире. Заявлено, что это ядерный взрыв, но, вопреки всем законам физики, уровень заражения не спал и поверхность по-прежнему непригодна для жизни. Там же всего за двадцать лет развелось неимоверное количество мутантов, в т. ч. летающих, которые чрезвычайно опасны для людей. В Кремле завелся монстр, обладающий гипнотическими пси-способностями, в районе «Ботанического сада» появились разумные «черные» мутанты, одним своим видом вызывающие дикий ужас у людей, но на самом деле вполне дружелюбными. Наверху в Ленинской библиотеке хранилась некая книга, охраняемая мутантами «библиотекарями» (аналог морлоков) которую хотят получить брамины Полиса, а на станции «Маяковская» – уцелевшая батарея РСЗО, необходимая для борьбы с мутантами. Таким образом, герои вынуждены раз за разом выходить на поверхность и сталкиваться с враждебным Хаосом.
Люди, населяющие мир постапа, также являются неотъемлемой частью его художественного пространства. Их общей чертой становятся снижение мобильности и повышение агрессивности, вызванные объективными причинами, а также этическая деградация, степень которой равна деградации инфраструктуры. Здесь можно выделить «мирных» жителей укрепленных островков цивилизации, сохранивших по возможности и даже пытающихся восстановить докатастрофные отношения. Вторая категория – бандиты, людоеды и прочие, представляющие собой деградировавшую часть социума, создающие иногда особые «бандитские районы», живущие по антиобщественным законам (понятиям). Они могут быть хорошо организованы, но это – паразитическая ретроцивилизация, возникающая на обломках старого мира. Зомби, мутанты и прочие не-человеческие персонажи представляют собой сюжетную персонификацию Хаоса. Особняком стоят герои Пути, не принадлежащие к одному из маркированных топосов (сталкеры, наемники, охотники, странники).
И здесь мы переходим к проблеме отношения сюжетного и художественного пространств в по-стапе. Они достаточно сложны, но все же складывается впечатление, что сюжет здесь выполняет преимущественно служебную функцию. Главным фабульным событием становится выполнение миссии, а оно, в свою очередь, связано с перемещениями на большие расстояния и через множество разнообразных локаций, что дает автору возможность показать этот мир во всех деталях. Таковы уже названные «Метро-2033», его продолжения и большинство фанфиков этой серии, путешествие лежит в основе цикла А. Круза «Эпоха мертвых», М. Острогина (Э. Веркина) «Бог калибра 58» и многих других произведений. Упрощенным вариантом путешествия может стать бродяжничество как образ жизни (Б. Громов «Солдат без знамени», А. Мичурин «Песни мертвых соловьев» и др.)
Хронотоп Дороги со всеми его атрибутами (целью, засадами, погонями, встречами, внезапными препятствиями и т. д.) генерирует ситуации испытания для героя и тем самым выстраивает сюжет. Особенно это заметно в романах, созданных на основе игровых вселенных (“S.T.A.L.KE.R”, “FALLOUT”, «Метро 2033», “Escаpe from Tarkov”) – таких как циклы «Метро-2033» Д. Глуховского, “Survarium” В. Ночкина и др., “INFERNO” Э. Веркина, «Ничья земля» Я. Валетова.
В произведениях, где авторы пытаются добросовестно моделировать обозримые последствия какой-либо катастрофы особого изобилия мутантов и локаций не наблюдается. В частности, А. Круз в предисловии к роману «После» писал, что «в этой книге не будет ни навечно зараженной земли, ни двухголовых мутантов и “чудовищ ядерных пустошей”, а также злодеев в шипах и коже в стиле “Безумного Макса” или игры “Фоллаут”… потому, что хоть эта книга и фантастика, но все же не настолько… постъядерный мир будет просто миром разрушенным, не более» [5]. На тех же принципах построены романы В. Денисова «День G» и «Антибункер», «Солдат без знамени» Б. Громова, «Пепельная земля» А. Конторовича и некоторые другие.
Можно предположить, что эта разница во-многом определяется запросами читательской аудитории, которая также очень неоднородна. Одна группа читателей (условно – «выживатели») хочет получить реалистичный футурологический прогноз, где будут описаны различные стратегии выживания; другая (условно – «эскаписты») рассматривает пространство ПА-мира как область свободы, где не действуют традиционные ограничения: «свобода внутренняя и внешняя, от законов государственных, общественных и моральных. Это ли не мечта каждого второго человека в современ- ном обществе?… В постапокалиптическом мире главный герой делает с окружением ровно то, чего оно заслуживает… в постапокалиптическом мире все просто: жрешь мозги – умри» [7].
Проведенный анализ позволяет выделить основные качества художественного пространства в жанре постапокалиптического романа.
Первое – структура постапокалиптического пространства основана на оппозиции: гибнущий Порядок против наступающего Хаоса (в отличие от конфликта природа-человек или дикость-цивилизация в приключенческом жанре о первопроходцах). Фрагментарность мира, состоящего из большого количества непрозрачных, труднодоступных и потенциально опасных локаций, а также большое количество границ между ними, оптимальна для доминирующего хронотопа Пути.
Второе – необходимо отметить обратное воздействие сюжета на пространство: перенасыщенность ПА мира разнообразными угрозами является во-многом данью жанровой природе фантастического боевика. Принципы создания динамичного приключенческого сюжета толкают авторов на создание максимально экзотичного мира, требуют усложнения топоса, расширения номенклатуры агрессивных существ и врагов. Таким образом, моделирующая функция хронотопа представляется минимальной.
Третье – исследование художественного пространства постапокалиптического произведения приводит к выводу об изначальной вторичности этого жанра, так как все его структурные элементы заимствованы из других более ранних жанров, герои и явления, наполняющие этот мир, также имеют исходные прототипы в других жанрах. Даже такой знаковый сюжетный признак ПА как «мародерка» имеет явное сходство с «робинзонадами». Специфика постапа заключается в особой комбинации всех этих пространственных составляющих, а также в уникальной поэтике гибели цивилизации, которая формирует атрибутику и восприятие текста. Постапокалиптическое пространство – это разрушенный Порядок, не возвращающийся, в то же время в состояние изначального Хаоса. Таким образом, оно сохраняют географические названия, приметы и некоторые свойства погибшего мира, а в итоге – память о погибшем мире, узнаваемые черты настоящего.
Четвертое – наиболее характерной приметой постапокалиптического пространства является отсутствие хронотопа Дома. Все герои постапа фактически бесприютны, а доминирующим направлением сюжетного движения героев является обретение или воссоздание этого Дома.
Список литературы Художественное пространство современной российской постапокалиптической фантастики
- Ахметова М.В. Эсхатологические мотивы современной мифологии в России конца XX - начала XXI вв.: дисс. … канд. филол. наук. М., 2004.
- Желобцова С.Ф., Барашкова С.Н. Жанровые маркеры романа-катастрофы в прозе Андрея Геласимова и Сакё Камацу // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. № 10. С. 19-22.
- Желтикова И.В. Будущее: страх или надежда. На примере представлений о будущем в России начала ХХ века // Ученые записки Орловского государственного университета. 2014. № 5(61). С. 109-114.
- Кожина О.П. Эсхатология в системе глобальных проблем: социально философский анализ: дисс… канд. филос. наук. Красноярск, 2010.
- Круз А. После. [Электронный ресурс]. URL: https://knizhnik.org/andrej-kruz/posle/1 (дата обращения: 10.10.2021).
- Лихина Н.Е. Эсхатологический дискурс современной литературы // Вестник российского государственного университета им. И. Канта. 2006. № 8. С. 66-72.
- Постапокалипсис: причины популярности жанра. [Электронный ресурс]. URL: https://www.livelib.ru/https://www.livelib.ru/articles/post/18921-postapokalipsis-prichiny-populyarnosti-zhanra (дата обращения: 10.10.2021).
- Рыжков Т.В. Эсхатологический сюжет в русской прозе рубежа XX - XXI веков: дисс. … канд. филол. наук. Краснодар, 2006.
- Сомова Е.В. Традиция "школы катастроф" в историческом романе Дж. Уайт-Мелвилла "Гладиаторы" // Вестник Москов. гос. лингвистич. ун-та. Гуманитарные науки. 2018. № 15 (810). С. 167-180.
- Чеснова Е.Н., Мансурова Ш.И., Снытина А.А. Философия миров постапокалипсиса в современной культуре // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2017. № 2 (22). С. 46-54.