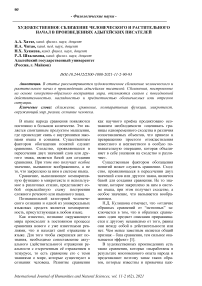Художественное сближение человеческого и растительного начал в произведениях адыгейских писателей
Автор: Хатхе А.А., Читао И.А., Хуажева Н.Х., Шхалахова Р.Л.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 11-2 (62), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается художественное сближение человеческого и растительного начал в произведениях адыгейских писателей. Сближения, построенные на основе конкретно-образного восприятия мира, отличаются связью с повседневной действительностью, наглядностью и предметностью обозначаемых ими отрезков ситуации.
Сближение, сравнение, компаративная функция, микротекст, окружающий мир, реалии, сознание человека
Короткий адрес: https://sciup.org/170192619
IDR: 170192619
Текст научной статьи Художественное сближение человеческого и растительного начал в произведениях адыгейских писателей
В языке народа сравнения появляются постоянно в большом количестве. Это является спонтанным продуктом мышления, где происходит связь с внутренними законами языка и сознания. Существенным фактором обогащения понятий служит сравнение. Сходство, проявляющееся в пересечении двух значений слов или другого знака, является базой для создания сравнения. При этом оно получает особое значение, вызванное воображением, а не то, что закреплено за ним в системе языка.
Сравнение, выполняющее компаративную функцию в микротексте и используемое в различных стилях, представляет собой определённую схему построения сложного речевого или языкового знака.
Познавательной категорией человеческого сознания и одной из универсальных языковых средств является компаратив-ность, присутствующая в любом языке.
Как известно, познание окружающего мира происходит в постоянном процессе сравнения нового с уже известными реалиями, что и находит своё отражение в языке. Для того чтобы свершился акт познания, необходимо сопоставление актуального (действительного) отражения реальности с отсроченным её отражением в тезаурусе, то есть сравнение его с теми знаниями о мире, которые существуют в сознании человека. Развитие сравнения как научного приёма продиктовано осознанием необходимости «оценивать границы одновременного сходства и различия сопоставляемых объектов, что привело к превращению простого отождествления известного и неизвестного в особую познавательную операцию, которая объединяет в себе указания на сходство и различие».
Существенным фактором обогащения понятий может служить сравнение. Сходство, проявляющееся в пересечении двух значений слов или другого знака, является базой для создания сравнения. Не то значение, которое закреплено за ним в системе языка, при этом получает сходство, а особое значение, что вызывается воображением.
Н.Д. Кулишова отмечает, что «отличие образных сравнений от “истинных” заключается в том, что в образных сравнениях один предмет описания приравнивается к другому независимо от того, равны они между собой в действительности или нет. Чем менее заметным является общий признак – база сравнения, тем сильнее оказывается эффект» [1].
В художественных произведениях есть такие сравнения, которые «выработаны в результате многовекового опыта народа и представляют поэтому запас таких образов, которые известны и привычны каж- дому члену данного языкового коллектива и передаются от поколения к поколению» [2]. Глубоко в прошлое уходят корни этих общеязыковых сравнений. «Преобразование действительности приводит к потере, выпадению целого ряда реалий, а также отношений, что, в свою очередь, влечёт за собой некоторое затемнение образа сравнения» [3].
При описании растений художники слóва используют не только прямые номинации, но и такие разнообразные языковые средства и приёмы, как сравнение, мета-форизация, фразеологизация, коннотация, олицетворение, метаморфоза и аллегория. В данной статье подробнее рассмотрим сравнение человека с растениями. Приведём несколько примеров.
« Къэлэкъутэ пшъашъэм къеплъи, ынэпцэшхохэу мэз цун мэзахэм фэдэмэ тыгъэнэбзыйхэр къахэщыгъэх » [4].
« Калакут внимательно посмотрел на девушку , и из его заросших, подобно густому тёмному лесу, бровей сверкнули лучи солнца » [5].
В данном отрывке автор, всматриваясь в человека, находит в нём растительные черты, что придаёт облику зримость, основательность, эпичность.
Другой пример:
« Ынэгу упlышкlугъэ цlыкlу, ныбжьи тыгъэ темыпсагъэ фэдэу кlыфыбз; ыпкъышъол гъонлагъи, ынэгу кlыфи, жьаум къыщыкlыгъэ картоф къулэм фэдэу, кlочlаджэу, лъы кlэмыты фэдэу къыпщэхъу » [6].
« Его лицо было необыкновенно бледно и бескровно, словно никогда не видело солнца, и весь он напоминал хилый, бледный побег проросшего в тени картофеля » [7].
Сравнивая лицо человека с побегом проросшего в тени картофеля, автор обращает внимание на случаи художественного сближения человеческого и растительного начал. Т.М. Керашев пишет для тех, кто способен в деталях увидеть и познать природу, он не сомневается в том, что его читатели отлично представляют себе побеги картофеля, выросшего без солнечных лучей, и что именно растение поможет читателю лучше, чётче представить себе человека.
Аналогичен и следующий пример:
« Зы лъэхъан горэкlэ Лаукъан ыгу мэзахэмрэ чъыlэмрэ нэмыкl имылъыжьэу хъугъагъэ. Чъыг цlыкlоу агъэкощи нэмыкl чlыпlэ хагъэlыстхьагъэм фэдэу » [8].
« В душе Лаукана воцарилась мрак и холод. Как растение, посаженное в другую почву » [7].
В данном эпизоде автор использует знание о жизни растения, чтобы объяснить социально-психологическую подоплёку языкового творчества. Душа героя сравнивается с растением, которое может погибнуть или, пустив корни, может дать внешние результаты подземного роста души. В отрывке сопоставляется состояние природы и душа человека. Мысль о губящем и порождающем времени, о прошлом и будущем человека служит основой для отображения символических связей с человеческим началом образов подземного растительного созревания. Тембот Керашев рассматривает перипетии человеческой души как затруднённое прорастание из земли.
Другой пример:
« Лlыжъ лъэхъчэ мытlырэу , пытэу зэхэlулlагъ, плlэlубгъо шъхьэшху, ыlитlу кlыхьэ дэдэу ыпкъышъол щымыщэу пагъэкlагъэм фэд – чъыгэежъ лъэкъымэ къобэбжъабэм фэдагъ » [8].
« Небольшого роста, плотно сбитый, широкий в плечах, с крупной головой и большими руками, старик напоминал низкорослый кряжистый дуб » [7].
Приписывая человеку качества природы, автор рисует образ героя, частично «изготовленного» из твёрдого материала – дуба, связанного в народной картине мира с образом дерева, древесина которого является качественным материалом. Думается, что сравнение человека с дубом является показателем твёрдости, жизнестойкости.
Следующий пример:
« – Сыда къапlо пшlоигьор, цlырау цlыкlу ? Лащынэ тlэкlурэ егупшысагъ.
– Орэдым къыlорэр арыба, сыда сэ шъхьафэу къэсlощтыр? » [9].
« – Ты что хочешь сказать, сорнячок ? Ляшин задумался, потом ответил:
– Песня сама рассказывает о себе, а что я могу ещё сказать? » [7].
Автор сравнивает человека с маленькой нежной травкой и называет его сорнячком. Тем самым он показывает, что надо любить любое растение, и в этом заключается красота жизни.
Таким образом, писатели приписывают растениям черты человеческого характера. Душа героя сравнивается с растением, которое может погибнуть или, пустив корни, может дать внешние результаты подземного роста души. Мастера слóва используют знание о жизни растения, чтобы объяснить социально-психологическую подоплёку языкового творчества.
Список литературы Художественное сближение человеческого и растительного начал в произведениях адыгейских писателей
- Кулишова Н. Д. Сравнение как средство познания // Актуальные проблемы лингвистики в вузе и в школе: Третья Всерос. шк. молодых лингвистов, Пенза, 23-27 марта 1999 г. М.; Пенза, 1999. С. 233-234.
- Чернышёва И. И. Фразеология современного немецкого языка. М.: Высш. шк., 1970. 200 с.
- Романенко О. В. Олицетворения и овеществления в языке романа Э.М. Ремарка "Возлюби ближнего своего" (сопоставительный анализ подлинника и переводов): дис. … канд. филол. наук. Краснодар, 2002. 144 с.
- EDN: NMCHNR
- Iэшъын Хь. Зэфакlу. Мыекъуапэ: Краснодар тхылъ тедзапlэм и Адыгэ отделение, 1968. 248 н.
- Ашинов Х. А. Водяной орех: повести и рассказы: автор. перевод с адыгейского И. Савенко. М.: Сов. писатель, 1970. 440 с.
- Кlэрэщэ Т. Хэшыпыкlыгъэ тхыгъэхэр зыдэт тхылъищ. Апэрэ тхылъ. Мыекъуапэ, 1987. 560 н.
- Керашев Т. М. Избранное; предисл. У.М. Панеша. Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 1997. 600 с.
- Кlэрэщэ Т. Хэшыпыкlыгъэ тхыгъэхэр зыдэт тхылъищ. Ящэнэрэ тхылъ. Мыекъуапэ, 1989. 560 н.
- Кlэрэщэ, Т. Хэшыпыкlыгъэ тхыгъэхэр зыдэт тхылъищ. Ятlонэрэ тхылъ. Мыекъуапэ, 1988. 560 н.