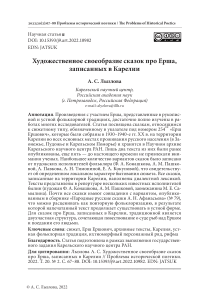Художественное своеобразие сказок про ерша, записанных в Карелии
Автор: Лызлова Анастасия Сергеевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
Произведения с участием Ерша, представленные в рукописной и устной фольклорной традициях, достаточно полно изучены в работах многих исследователей. Статья посвящена сказкам, относящимся к сюжетному типу, обозначенному в указателе под номером 254** Ерш Ершович, которые были собраны в 1930-1940-е гг. ХХ в. на территории Карелии во всех основных местах проживания русского населения (в Заонежье, Пудожье и Карельском Поморье) и хранятся в Научном архиве Карельского научного центра РАН. Лишь два текста из них были ранее опубликованы, еще пять - до настоящего времени не привлекали внимания ученых. Наибольшее количество вариантов сказок было записано от пудожских исполнителей фольклора (Ф. А. Конашкова, А. М. Пашковой, А. Павкова, А. Н. Тимониной, Е. А. Кокуновой), что свидетельствует об определенном локальном характере бытования сюжета. Все сказки, записанные на территории Карелии, наполнены диалектной лексикой. Тексты представлены в репертуаре нескольких известных исполнителей былин (пудожан Ф. А. Конашкова, А. М. Пашковой, заонежанина М. Е. Самылина). Почти все сказки имеют совпадения с вариантом, опубликованным в сборнике «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева» (№ 79), что можно расценивать как повторную фольклоризацию, в результате которой напечатанный текст продолжает существовать в устной форме. Для сказок про Ерша, записанных в Карелии, традиционной является двухчастная структура, сочетающая повествование о суде рыб над Ершом и поедании его людьми.
Сюжет, ерш ершович, архивные тексты, карелия, устная фольклорная традиция, ихтиоморфный персонажный ряд, рифма
Короткий адрес: https://sciup.org/147237948
IDR: 147237948 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10982
Текст научной статьи Художественное своеобразие сказок про ерша, записанных в Карелии
В русской фольклорно-сказочной традиции нередко встречаются сюжеты, представленные и в рукописных источниках. Подобные случаи интересны как фольклористам, так и тем исследователям, внимание которых сосредоточено на изучении древнерусской литературы. Таковы, к примеру, произведения о Шемякином суде, Фоме и Ереме, куре и лисице, которые известны и по устным вариантам, и по рукописным сборникам. В фольклоре и книжности находит отражение, кроме того, сюжет о Христовом крестнике, рассматриваемый А. В. Пигиным (см.: [Пигин]). К таким явлениям относится и повествование о Ерше.
Рукописная повесть о Ерше, известная в нескольких редакциях, была всесторонне рассмотрена в работах целого ряда исследователей (см.: [Шляпкин], [Сушицкий], [Адрианова-Перетц], [Лапицкий], [Романова, 1962а], [Митрофанова]). Чрезвычайно подробную историографию изучения данной сатирической повести см.: [Власова], [Имаева].
Сказки сюжетного типа «Ерш Ершович» объединены в СУС1 под номером 254 ** , согласно указателю, его краткое содержание сводится к следующему: «…ерша судят по жалобе леща; он смеется над судьями»2. Публикации вариантов таких сказок встречаются в лубочных изданиях3, первых фольклорных сборниках второй половины XIX в.4 и на страницах периодической печати того же времени5. Основной массив текстов представлен в многочисленных сборниках, выходивших на протяжении ХХ столетия и отражающих записи сказок из разных регионов России. Всего в указателе учтены 20 опубли кованных ист очников, датированных 1840–1970-ми гг.
Сказки о Ерше, отмеченные в СУС, также рассматривались в работах некоторых исследователей (см.: [Романова, 1962b], [Митрофанова], [Имаева]). Между тем в сюжетном типе 254 ** объединены и собственно устные варианты, и перепечатки из рукописных сборников. Так, один из текстов сборника А. Н. Афанасьева (№ 80) взят «из рукописного сборника, принадлежавшего историку И. Е. Забелину. Рукопись исследователя датируется третьей четвертью XVIII века» [Бараг, Новиков: 457]. В общий перечень источников вошел также сборник, подготовленный М. К. Азадовским, содержащий ранние записи сказок из Карелии, в котором помещены два варианта рукописных текстов о Ерше из собрания Ф. И. Буслаева6.
Единство во взглядах ученых по поводу взаимоотношений сказки и рукописной повести отсутствует. Одни из них «полагают, что сказка, самые ранние записи которой сделаны в XIX веке, имеет устное происхождение и бытовала еще до появления рукописной повести, близкой отчасти к фольклорному стилю» [Бараг, Новиков: 457]. Другие считают, что народные сказки своим происхождением обязаны повести (см. об этом: [Романова, 1962b: 411]).
Не вызывает сомнений, что сказка о Ерше представляет собой сложное явление: в ней «переплелись качества народной сказки о животных, свойства бытовой сатирической и литературной сказок» [Имаева: 104, 118]. Происхождение их связано со скоморошьей средой (см.: [Имаева: 99, 137]). Как пишет З. И. Власова, «сюжет о Ерше возник в русле древних скоморошьих традиций. В нем заключена установка на смеховой тип фантастики. Притягивая разные фольклорные мотивы, он воплотился в форму сказки, а из нее в драматизированную сценку и в таком виде вошел в репертуар скоморохов, которые разнесли его по регионам своего пребывания» [Власова].
В фольклорном фонде Научного архива Карельского научного центра Российской академии наук (далее — НА КарНЦ РАН) хранятся несколько текстов, соотнесенных собирателями с сюжетным типом СУС 254** Ерш Ершович. Они фиксировались преимущественно в 1930–1940-е гг. в трех основных местах проживания русского населения в Карелии — в Заоне-жье (на Заонежском полуострове Онежского озера), в Пудожье (Пудожском районе) и в Карельском Поморье.
Удалось установить, что не все архивные тексты могут считаться сказками про Ерша. Так, один вариант озаглавлен как «Ерш Ершович Щетинников, волшебная сказка»7 и имеет добавление: «сочинение Ершова»8, но совпадения с эпизодом из «Конька-горбунка», где участвует ерш, не были обнаружены. Возможно, у варианта существует какой-либо иной литературный источник. Другой текст9 является фрагментом песни, сопровождающей игру, в которую «обыкновенно играли на святочных игрищах» [Русский эротический фольклор: 226]. (Более подробно о песне-игре про Ерша-гуляку см.: [Власова].)
Еще семь архивных вариантов действительно соотносятся со сказками про Ерша, несмотря на то, что один из них (поморский) обозначен в материалах собирателей как «побасенка “Ершишка-плутишка”»10, другой (заонежский) и вовсе имеет название «Детская сказка»11. Пять пудожских текстов озаглавлены практически одинаково: «Про Ерша Ершовича»12 / «Об ерше»13 / «Про Ерша»14, они свидетельствуют о бытовании сюжетного типа в локальной устной традиции. К настоящему моменту были опубликованы только два архивных варианта15, лишь один из них (записанный от Ф. А. Конашкова) учтен в СУС16. Текст был усвоен потомками исполнителя: «Хорошо и с удовольствием Мария Егоровна (Исакова, урожденная Конашкова, внучка Ф. А. Конашкова. — А. Л.) рассказывает сказку “Про Ерша-Ершовича”» [Козлова: 146], но в НА КарНЦ РАН не удалось обнаружить записей этого произведения, сделанных от родственников сказителя.
Для характеристики текстов, записанных на территории Карелии, воспользуемся полной сюжетной схемой, предложенной Г. З. Имаевой, проанализировавшей учтенные в СУС тексты:
«I. “История суда над Ершом”.
-
1. Присказка.
-
2. Описание Ерша:
-
— просьба ерша пустить переночевать;
-
— обиды, причиняемые рыбам-старожилам расплодившимися ершами.
-
3. Совет рыб.
-
4. Посылка понятых за ершом, а потом за свидетелями.
-
5. Судебное разбирательство:
-
— предъявление обвинения;
-
— ответ ерша, его отговорки (пожар на озере);
-
— вызов свидетелей;
-
— решение суда.
-
I I. Рифмованная повестушка (небольшое повествование, структурно связанное с основным сюжетом):
-
— ловля ерша;
-
— приготовление и съедание ерша» [Имаева: 88].
Почти во всех зафиксированных в Карелии сказках о Ерше отсутствует один из компонентов рассматриваемого сюжета — присказка. Лишь в варианте, записанном от заонежа-нина М. Е. Самылина, повествование начинается с короткой фразы: «От Архангельска до Тубы, от Москвы до самой Пери широко раскр ыты двери»17, после которой следует описание
Ерша: «Жил-был Ершишко-плутишко, худая головишка, пулеватый нос, слинотовый хвост»18. Похожие развернутые характеристики используются практически во всех остальных сказках: главным действующим лицом в них оказывается Ершишко-плутишко19 или Ершишка-плутишка20, именуемый также Ерш-щетник21 / Ерш-щетинник22, Ерш-ябедник23. В текстах он получает целый набор дополнительных прозвищ: плоха24 / худа(я)25 головишка / головишко, «слиноватый»26 / «хореватый»27 / «свиневатый»28 / «щиловатый»29 / «виловатый»30 хвос(т), «слюноватый»31 рот, «пулеватый»32 / «слюноватый»33 / «шилеватый»34 нос. В отдельных текстах Ерш характеризуется как «острая щетина, лихая образина»35; «слиновата тюр-зина36, немыта образина, кудревата тюрпасина37»38. В двух вариантах уточняется, что у него «кожа, как еловая кора»39. В описании отражается поведение Ерша (он плут и ябедник) и подчеркивается его «сопливость», т. е. покрытие тела слизью, что зафиксировано в диалектных эпитетах «слиноватый» / «слю-новатый» (слюнявый), «пулеватый» (сопливый). Удивительным оказывается то, что в некоторых случаях сказочники Карелии почти дословно воспроизводят формулы, используемые в сказке из сборника А. Н. Афанасьева (№ 79):
«Зародился ершишко-плутишко, Худая головишко,
Шиловатый40 хвост, Слюноватый нос, Киловатая41 брюшина, Лихая образина, На роже кожа — как елова кора» 42 .
Эти соответствия позволяют предположить, что сказка о Ерше, закрепленная в литературе в середине XIX в. в виде опубликованного текста в сборнике А. Н. Афанасьева, выдержавшего множество переизданий, оказала безусловное влияние на устную традицию Карелии, что будет подтверждено и дальнейшими примерами.
Ерш в текстах всегда оправляется в путешествие из одного озера в другое, при этом наиболее часто упоминаются реально существующие водоемы, расположенные в Карелии, а также в Вологодской и Ярославской областях. Так, у пудожанки Е. А. Кокуновой Ерш перемещается из «Водлозерского» озера в «Колодозерско», затем — в «Рындозерско», в «Песчанско и в славное озеро Онежское»43. У другой пудожанки — А. М. Пашковой — он покидает «Водлозерское» озеро и через «Чуялу-реку», «Водлу матушку-реку», «по Панеге-реке» добирается в «Панозерское озеро»44. В сказке Ф. А. Конашкова Ерш перемещается из Корбозерского озера через Ростовскую реку в Ростовское озеро45. У А. Н. Тимониной его путь пролегает из «Белозерьско, в Корбозерско, // В Ростофьско, в реку, в Ростовь-ско озеро»46. Похожие водоемы фигурируют и в варианте А. Павкова: «К олбозерсько», «Водлозерсько» и «Ростосько»47
озера. В сказке, записанной от М. Е. Самылина, Ерш из Купецкого озера перемещается в Ростовское. В сообщенном А. А. Петровой варианте он изначально пребывает в «Кутенском» озере, откуда отправляется в озеро «Ростопское», а затем — в «Ярославское» и в «Переславско»48. Некоторые из упоминаемых в сказках Карелии водоемов опять же упоминаются в варианте из сборника А. Н. Афанасьева: из родного Кубинского озера Ерш
«Поехал в Белозерское озеро, С Белозерского в Корбозерское, С Корбозерского в Ростовское» 49 .
Итак, в фольклорных вариантах используются названия реальных водоемов, находящихся в Вологодской, Ярославской областях и в Карелии. Вместе с тем «сказка начинает точно локализироваться, переносить действие в определенную местность, лишь в XIX и ХХ вв. Поэтому данный эпизод с указанием точных географических объектов имеет довольно позднее происхождение» [Имаева: 92].
Иногда сообщается, что Ерш для своего перемещения между озерами использует «вербовые дровишки»50, «еломые дровишки»51 или «липовы дровнишки»52. В сказке, записанной от М. Е. Самылина, дерево, из которого сделаны дровнишки, не называется53. Сказочники, видимо, «дровнишки» (сани) заменяют на «дровишки». В варианте А. Павкова используется фраза: «Собрался ен на вельми дровнишка»54, что опять же является отсылкой к тексту из сборника А. Н. Афанасьева, где употребляется словосочетание «на ветхих дровнишках», но в подстрочном примечании к эпитету указывается, что в рукописи написано «на вельмей»55.
В новом озере Ерш начинает плодиться, чем вызывает недовольство других рыб: он женил сыновей и выдал замуж дочерей, а «лещей — жильцов ростовских — разогнал, по мхам, по болотам, по тухлым местам»56 / «лещов, онежских жильцов, повыгнал в болото»57 / «всем лещам и окуням панозерским поживу не дал»58. Эти рыбы вынуждены претерпевать лишения, испытывать голод и жажду: они «по три года хлеба-соли не едали, светлой воды не пивали, с голоду помирали»59 / «не смели своего носа сунуть в озеро, не доедали, не допивали, иные с голоду помирали»60 / «по троим суткам не едали, хорошей воды не пивали, а некоторы с голоду сдыхали»61. В результате они решают подать на Ерша жалобу62 / прошение63 / «челобитну»64.
Почти дословно воспроизводится соответствующий эпизод из сказки, опубликованной в сборнике А. Н. Афанасьева, в вариантах, сообщенных в 1940 году А. Н. Тимониной и А. Пав-ковым:
|
Афанасьев I: 98 |
Павков: 590–590 об. |
Тимонина: 42–43 |
|
Сыновей поженил, А дочерей замуж по-выдал, Изогнал лещов, Ростовских жильцов, Во мхи и болота, Пропасти земные. Три года лещи Хлеба-соли не едали, Три года лещи Хорошей воды не пивали, |
Сыновей поженил, Дочерей замуж выдал, Поизогнал он лещов, Ростоських жильцов, Во мхи, в болота, в пропасти земные. Три году лещи хлеба-соли не едали, Три году лещи хорошей воды не пивали. |
Сыновей поженил, дочерей замуж повы-дал, Согнал лещов, ро-стовьских жильцов, Во мхи-болота и в пропасти земные. Там оны три года хлеба не едали И воды не пивали. |
56 (Конашков: 59).
57 (Кокунова: 80–80 об.).
58 (Пашкова: 233).
59 (Конашков: 59).
60 (Пашкова: 233).
61 (Кокунова: 80–80 об.).
62 Там же.
63 (Конашков: 59; Пашкова: 233).
64 (Петрова: 10 об.).
|
Три года лещи |
Оттого лещи с голоду |
С того лещи, с голоду |
|
Белого свету не вида- |
помирали. |
и помирают. |
|
ли; |
Подавали лещи пе- |
Бьют лещи на ербовом |
|
С того лещи С голоду помирали, Сбиралися лещи в земскую избу, И думали думу заедино, И написали просьбу, И подавали Белозер-Палтос-рыбе. |
ровну бумагу. |
листу. |
В рассматриваемых сказках Карелии лещи подают жалобу «палтус матушке-рыбе»65, «палтус-рыбы»66, «семги матушки-рыбы»67, «семге-рыбе»68, «щуки ростопской, белуги ярослав-ской»69. В текстах, «подобно зверям и птицам, рыбы имеют свою главу или “царя”. Вот к этой главной рыбе они и обращаются за помощью» [Имаева: 94]. Она в свою очередь собирает совет рыб («крупных и мелких»70) и назначает того, кто приведет Ерша на суд. За ним отправляются поочередно три разных рыбы: семга, налим и хариус71, «тресчина», налим («мень») и «харьюс»72. При встрече с гонцами Ерш, в соответствии со сказочным законом троекратности, дважды отказывается идти на суд, поворачиваясь хвостом, выпуская «рупачи» (колючки)73 или «ропсы» (щетинья, колюшки, т. е плавники)74 и говоря: «…если хошь ерша — то ешь с хвоста»75. Соглашается он только в третий раз, когда его приглашает хариус: ведь «гариусок» / «харьюсок» имеет «губки тоненьки, зубки частеньки, платьица беленьки»76 / «губки тоненькие, платьице беленькое, походочка господская, разговорушки московские»77.
Прежде плут нелестно отзывается о треске («Рыбу-треску порют и полощут по песку»78) и о налиме («У менька губы толсты, зубы редки»79 / «Налим толстопузой, у тебя губы толстые, зубы редкие, а башка твоя никуды не годится»80).
Развернутое негативное обращение Ерша к семге представлено в сказке А. М. Пашковой:
«— Ай же ты, рыба-семга, красная твоя туша, сальные твои бока, пустая твоя башка, везут тебя пятьсот, шестьсот, да и тысячу верст, не всякий человек тебя и покушает. Покушает рыбу-семгу сотский, пятисотский, тысяцкой и десятский, а меня, ерша-бедняка, всякий бедненький мужичок поест; купит и продаст и христа ради подаст, домой принесет и хозяйке подает. А хозяйка овсяных блинов подпекет да уху сварит. Станут есть и похваливать: “Хотя рыба костлива — а уха хороша!”» 81 .
Многие из используемых исполнительницей формул встречаются в тексте из сборника А. Н. Афанасьева.
Похожим образом Ерш разговаривает с семгой в сказке, записанной от Е. А. Кокуновой:
«Ай же ты, матушка-семга-рыба, тебя едят господа да бояре, а меня, — говорит, — едят люди простые кресьяна, а бабы блинов напекут да ухи наварят, да едя, да похваливают» 82 .
Но в этом варианте семга является главной рыбой и прежде раздумывает, «кого за ершом послать? Щука послать — у той рот большой да зубы долги, а минька послать, у того губы толсты да зубы редки (тот не умел с Ершом говорить), а надо послать, говорит, Гарьюса. У того губки тоненьки, да зубки частеньки. Тот умел с Ершом говорить»83.
Предварительный выбор возможного сопровождающего представлен как в сказке из сборника А. Н. Афанасьева, так и в вариантах А. Павкова и А. Н. Тимониной, где рыбы описываются с помощью обозначенных ранее формул:
|
Афанасьев I: 98 |
Павков: 589 об. — 590 |
Тимонина: 41 |
|
И думали думу заедино Щука ярославска, Другая переславска, Рыба-сом с большим усом: Кого послать ерша позвать? Менька послать — У него губы толстые, А зубы редкие, Речь не умильна, Говорить с ершом не сумеет! Придумала рыба-сом С большим усом: Послать или нет за ершом гарьюса ** ; У гарьюса губки то-неньки, Платьице беленько, Речь московска, Походка господска. Дали ему окуня рассыльным, Карася пятисотским, Семь молей *** , понят ы х людей. * «Налима» [Афанасьев I: 96]. ** « Хариус — род лососей» [Там же]. *** « Моль — мелкая рыба разного рода, снетки несушеные» [Афанасьев I: 92]. |
Стали думать и гадать, Кого бы за ершом послать, Ерша на суд позвать. Выдумали за ершом послать менька. У менька губы тонкие, Зубы редкие. Тот с ершом говорить не умеет. Передумали за ершом послать гарбиуса. У гарбиуса губы то-неньки, Платьица беленьки, Ризь москоська, Походка госпоська. Тот с ершом говорить умеет. Изобрали семь молей, Понятых людей, Староста — окунь. |
Стали думать да гадать, Кого за ершом послать. Выдумали послать минька. У минька губы толсты, зубы редкие. Тот с ершом говорить ни умиет. Выдумали послать гарьюса. У гарьюса платья бе-леньки, тоненьки, Речь моськоська, походка госоподьска. Тот с ершом говорить умеет. — Староста окунь, карас пятисотской, Сем молей — понятых людей, Все за ершом ступайте! |
Упоминаемые в этих текстах рыбы (окунь, карась, моль) фигурируют и в сказке М. Е. Самылина: «Начали ерша ловить староста окунь, карась пятисотской, семь молей — понятых людей»84.
Итак, Ерша ожидает суд. В ряде случаев он добровольно отправляется туда в сопровождении хариуса85 или группы других рыб (окуня, молей, карася)86. В сказке, записанной от А. Павкова, рыбы «взяли ерша, связали, сковали, // На суд приставили»87, что опять же является воспроизведением ситуации из варианта, опубликованного А. Н. Афанасьевым, где:
«Взяли ерша,
Сковали, связали
И на суд представили» 88 .
Дальнейшее повествование в тексте А. Павкова соответствует афанасьевской сказке: Ерш, представ перед судом, начинает говорить «не с упадком»; в первоисточнике используется слово «с повадкой», которое в рукописи имеет вариант «не с упадкой»89. Главная рыба просит Ерша предоставить документы, подтверждающие право жить в озере; названия этих документов, а также место их хранения (ларец / сундук) и причина утраты (пожар) почти полностью совпадают:
|
Афанасьев I: 97 |
Павков: 590 |
|
Ерш перед судом стоит И с повадкой говорит: «Матушка Белозер-Палтос-рыба! Почему меня на суд повещали?» — «Ах ты, ершишко-плутишко, Худая головишко! Почему ты разжился и расселился В здешнем Ростовском озере <…>. Есть ли у тебя на это дело Книги, отписи и паспорты какие!» — |
Рыба-семга говорит: «Есть ли у тебя книги, отписи, Пашпорта, билеты?». |
84 (Самылин: 7).
85 (Конашков: 60; Пашкова: 235); (Кокунова: 80 об.)
86 (Тимонина: 41).
87 (Павков: 590).
88 (Афанасьев I: 96).
89 (Афанасьев I: 97).
|
«Матушка Белозер-Палтос-рыба! В память или нет тебе пришло: Когда горело наше славное Кубинское озеро, Там была у ершишка избишка, В избишке сенишки, В сенишках клетишко, В клетишке ларцишко, У ларцишка замчишко, У замчишка ключишко, — Там-то были книги и отписи И паспорты, и все пригорело! Да не то одно пригорело; Был у батюшки дворец На семи верстах, На семи столбах <…> — И то все пригорело!». |
Ерш перед судом стоит Да не с упадком говорит ( не тухнет ): «В память ли вам не в память, Когда горело наше славное Кубеньское озеро. Там был у батюшка дворец На семи столбах, На семи верстах. Там была клетишка, Там было замчонко, Там было сундучонко, Там были книги, отписи, Пашпорты, билеты. Все сгорело». |
Речь Ерша на суде, представленная в сказке А. Н. Тимониной, также имеет много совпадений со сказкой из сборника А. Н. Афанасьева. В ней опять же используется упоминаемое ранее слово «с упадком» и целый ряд формул, которые описывают рыб (семгу и сельдь) и людей, употребляющих в пищу этих рыб и ершей:
|
Афанасьев I: 97–98 |
Тимонина: 42 |
|
Ерш пред судом стоит И с повадкой говорит <…>. «Ах ты, рыба-семга, бока твои сальны! И ты, рыба-сельдь, бока твои кислы! Вас едят господа и бояра, Меня мелкая чета крестьяна — Бабы щей наварят И блинов напекут, Щи хлебают, похваливают: Рыба костлива, да уха хороша!». |
Ерш противу суда стоит Да не с упадком говорит: — Ах ты, семга, бока твои сальные, Ах ты, сельга, бока твои кислы, Вас едят господа да бояра, А нас едят мелкая чета — кре-сьяна, Купят на денежку, на полушку, Принесут домой, ухи наварят, Бабы блинов напекут. Рыба кослива, уха сладка. |
В ходе судебного заседания главная рыба в некоторых сказках объявляет свое решение, согласно которому Ерш должен покинуть озеро: «Ну, присудили Ершу назад в реку уплыть»90, «Возвратись ты в свое Корбозерское озеро»91. В варианте, записанном от А. А. Петровой, судьи решают изгнать Ерша с помощью физической силы: «“Ерша пришлеца, нездешнего озера жильца, надо гнать”. Вот они стали гнать. Кто палкой, кто припалкой. С той поры ерш добрых дён не видал, теплых щей не хлебал да мягкого хлеба не едал, да брюхо, бока подопрели, да вся кожа почернела»92.
В сказках А. Павкова и А. Н. Тимониной, вслед за текстом из сборника А. Н. Афанасьева, рыба семга просит ерша взять ее с собой:
|
Афанасьев I: 98 |
Павков: 590–590 об. |
Тимонина: 42–43 |
|
А ерш никаких рыб не боится, Ото всех рыб боронится. Рыба-семга хоть на ерша Злым голосом кричала, Только за ершом вслед подавалась: «Ах ты, ершишко-плутишко, Худая головишко! Возьми ты меня в свое славное В Кубинское озеро — Кубинского озера поглядеть И Кубинских стáнов посмотреть». |
Ну, ерш никаких рук не боится, Своими рыбашами боронится. Рыба-семга судебным голосом прокричала, Сама след подавалась: «Что, — говорит, — ершишко, Возьми-ко ты меня с собой». |
Ерш никаких рук не боится, Своима рупачам бо-ронитса. Семга-рыба зычным голосом рычала, За ершишком след подавалася: «Ах ты, ершишко, худа головишка, Возьми ты меня за собой, Вашего Кубеньского Славного озера посмотреть Да ваших станов по-глядить». |
90 (Кокунова: 81).
91 (Конашков: 61).
92 (Петрова: 11).
Ерш в трех этих сказках отправляется в путь вместе с семгой, они по очереди оказываются в разнообразных сетях: Ерш на утренней заре «вздремал» / «здремал», и мужику в морду93 / пешу94 / вершу95 попал.
Такова же его участь во всех остальных текстах: Ерш дремлет, в результате чего попадает в сеть96 или в прикол97. «Начали ловцы ловить, из ершей уху варить»98. На этом два варианта сказок, записанных в Карелии, заканчиваются99, но остальные тексты имеют продолжение.
«Последняя, завершающая часть сказок — рифмованная повестушка, рассказывающая о том, как ловили, приготовляли и ели Ерша. Она построена на созвучии слов, собственных имен» [Имаева: 98]. Количество рифм может быть различным и связано с индивидуальными способностями памяти того или иного исполнителя. Так, в сказке, записанной от А. М. Пашковой, употреблены десять рифм к именам людей и одному имени нарицательному: Богдан — «Бог дал», Фока — «укокал», Савва — «сала», Родион — «котел», Ненила — «помыла», Акулина — «сварила», Вавила — «вилы», Вахруша — «покушал», Антропка — «слопал», Елизар — «полизал», поп — «лоб». После рифмованной части повествование завершается: «А тыма сказка и покончилась»100.
Лишь два из этих упоминаемых А. М. Пашковой имен фигурируют в варианте, сообщенном А. А. Петровой, которая использовала рифмы к семи именам людей и одному имени нарицательному: Богдан — «Бог дал», Мина — «вынул», Обонос — «унес», вдова — «дрова», Марвина — «сварила», Новожил — «разложил», Стифан — «стипал», Елизар — «полизал». После этой части вариант А. А. Петровой завершается: «Раскатились красные ложки к пресному молоку и к овсяному пирогу. Тю-рю-рю, и ерш весь»101. Большее разнообразие представлено в сказке Е. А. Кокуновой, предлагающей рифмы к пятнадцати именам: Вавила — «вилы», Пахом — «балахон», Омос — «понес», Адам — «там», Егор — «котел», Ерема — «беремя», Акулина — «подварила», Давида — «блюда», Онуша — «покушал», Иван — «хам!», Елизар — «облизал», Федул — «надул», Борис — «подрались», Ягиша — «запишет», Обросим — «забросил»102.
В варианте, опубликованном в сборнике А. Н. Афанасьева, используется двадцать имен с рифмами: Никон — «прикол», Перша — «верша», Богдан — «Бог дал», Вавила — «вила», Пимен — «запинил»103 , Обросим — «бросил», Антон — «балахон», Амос — «понес», Спира — «стырит»104 , Вася — «слясил»105 , Петруша — «разрушил», Савва — «сала», Июда — «блюда», Марина — «помыла», Акулина — «подварила», Антипа — «стипал»106 , Алупа — «слупал», Елизар — «облизал», Влас — «глаз», Ненила — «обмыла». В сказках А. Павкова и А. Н. Тимониной, имеющих значительные совпадения с текстом из сборника А. Н. Афанасьева, количество рифм составляет, соответственно, семь (Богдан — «Бог дал», Вавило — «вилы», Омос — «понес», Спира — «шширит» (т. е. смотрит), Савва — «сала», Марина — «помыла», Окулина — «подварила»)107 и семнадцать (Фершал — «верша», Никон — «прикол», Богдан — «Бог дал», Панька — «палка», Давыд — «давить», Амос — «понес», Спира — «скирить», Кит108 — «бздит», Ера-сим — «слясил», Онисим — «свисил», Еремя — «беремя», Катерина — «подварила», юда — «блюда», Фофан — «слопал»,
Елизар — «полизал», Онуха — «понюхал», Роман — «по домам»)109 .
Повестушка, используемая в сказках, строится на рифмах пословичного типа, широко представленных в паремиях XVII — начала XVIII в. [Имаева: 138]. Их количество обусловлено исключительно индивидуальными способностями того или иного исполнителя [Адрианова-Перетц: 223].
Как верно подметила Г. З. Имаева, сказки о Ерше состоят из двух частей: в первой из них «участники событий — рыбы, хотя они и ведут себя вполне по-человечески, а во второй — люди, деятельность которых связана с событиями, разворачивающимися в озере. Люди ловят Ерша, который уклонился от исполнения судебного решения, вынесенного рыбами» [Имаева: 98–99]. При этом вторая часть обычно завершает сказку, но может встречаться и как самостоятельное произ-ведение110 . Почти все111 сказки о Ерше, записанные в Карелии, сохраняют обе части.
Фольклорные варианты, имеющиеся в нашем распоряжении, свидетельствуют о бытовании данной сказки в устной традиции на этой территории в 1930–1940-е гг. Между тем они обнаруживают сильное влияние текста, опубликованного в середине XIX в. в сборнике А. Н. Афанасьева (№ 79). Во многих текстах повторяются формулы, мотивы, даже целые эпизоды из афанасьевского варианта. Он передан в стихотворной форме, которая сохранена, к примеру, в сказках, записанных от А. Н. Тимониной и А. Павкова. Некоторые исполнители сообщили собирателям, что усвоили эту сказку устным путем, т. е. точно не из книги. Так, А. М. Пашкова поделилась, что ее «от коробейников слыхала, из Кенозера»112 . Е. А. Кокунова «сказку слышала у старика. Был такой старой, все просил да сказки говорил. Я еще молóда была»113 . И А. Н. Тимонина «про Ерша знает с детства от старых людей. Ее (эту сказку) любили больше всего слушать и по нескольку раз просили рассказывать.
В Великий пост песни петь грешно, дык надо сказки сказывать. Вот я и сказывала»114 .
Ритмическая организация сказок о Ерше была близка исполнителям, имеющим в своем репертуаре былины (Ф. А. Ко-нашкову и А. М. Пашковой из Пудожья, заонежанину М. Е. Са-мылину).
Можно предположить, что сказка про Ерша, закрепленная в лубочных картинках и в сборнике А. Н. Афанасьева, органично вошла в устную традицию Карелии в результате повторной фольклоризации, сохранив в вариантах локальные особенности, заключающиеся в своеобразии языка и бытовых реалий. Записанные на этой территории тексты наполнены диалектными словами и словоформами, характеризующими как мир рыб, представленный в первой части сказочного повествования, так и мир людей, изображаемый в заключительной части сказок.
[Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1571047274 . pdf (15.12.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2019.5781
Список литературы Художественное своеобразие сказок про ерша, записанных в Карелии
- [Адрианова-Перетц В. П.] Русская демократическая сатира XVII века / подгот. текстов, статья и коммент. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: АН СССР, 1954. 293 с.
- [Бараг Л. Г., Новиков Н. В.] Примечания // Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: в 3 т. / изд. подгот. Л. Г. Бараг и Н. В. Новиков. М.: Наука, 1984. Т. 1. С. 432–505.
- Власова З. И. Скоморохи и фольклор. СПб.: Алетейя, 2001. 524 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.booksite.ru/localtxt/sko/mor/ohy/37.htm (15.12.2021).
- Имаева Г. З. Народная сказка и ее литературные переложения: проблема происхождения и модификации текстов. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2008. 224 с.
- Козлова И. В. Сказитель Ф. А. Конашков в современных воспоминаниях родственников // Методика полевых работ и архивация фольклорных, лингвистических и этнографических материалов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. С. 141–150.
- Лапицкий И. П. Повесть о Ерше Ершовиче // Русская повесть XVII века. М.; Л.: Худож. лит., 1954. С. 428–440.
- Митрофанова В. В. Народные сказки о Ерше и рукописная повесть о Ерше Ершовиче // Русский фольклор. М.; Л.: АН СССР, 1972. Т. 13. С. 166–178.
- Пигин А. В. Древнерусская повесть о Христовом крестнике: проблема жанра // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 4. С. 42–67 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1571047274.pdf (15.12.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2019.5781
- Романова Л. Т. О редакциях древнерусской «Повести о Ерше Ершовиче» и о времени ее возникновения // Славянский филологический сборник. Уфа: Изд-во БГУ, 1962. С. 325–343. (a)
- Романова Л. Т. Сюжет о Ерше Ершовиче в устном народном творчестве // Славянский филологический сборник. Уфа: Изд-во БГУ, 1962. С. 409–420. (b)
- Русский эротический фольклор / ред. А. Л. Топорков. М.: Ладомир, 1995. 656 с.
- Сушицкий Ф. Из литературы эпохи Петра Великого. Повесть о Ерше и Челобитная царю Петру Алексеевичу // Филологические записки. Воронеж: Изд. наследн. А. А. Хованского, 1913. Вып. 4. С. 534–545.
- Шляпкин И. А. Сказка о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове // Журнал министерства народного просвещения. 1904. Август. С. 380–399.