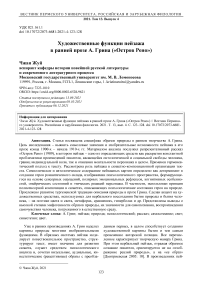Художественные функции пейзажа в ранней прозе А. Грина (Остров Рено)
Автор: Чжан Жуй
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена специфике образов природы в раннем творчестве А. Грина. Цель исследования - выявить смысловые значения и изобразительные возможности пейзажа в его прозе конца 1900-х - начала 1910-х гг. Материалом анализа послужил репрезентативный рассказ Остров Рено (1909), в котором пейзаж - одно из определяющих средств как раскрытия константной проблематики произведений писателя, касающейся онтологической и социальной свободы человека, границ индивидуальной воли, так и описания ментальности персонажа в целом. Применен герменевтический подход к тексту. Рассмотрена роль пейзажа в сюжетно-композиционной организации текста. Символическое и автологическое содержание пейзажных картин определено как детерминант в создании героя романтического склада, изображении психологического пространства, формирующегося на основе сенсорных ощущений, полярных эмоциональных рефлексов, когнитивных особенностей, онейрических состояний и этических реакций персонажа. В частности, использован принцип полисенсорной композиции в сюжетах, описывающих психологические состояния героя на природе. Прослежено развитие тургеневской традиции описания природы в прозе Грина. Сделан акцент на художественных средствах, используемых для вербального воссоздания бытия природы и бытия человека, - на поэтике цвета и света, метафорах, сравнениях, гиперболах и др. Представлены выводы о высокой степени мифогенности образов природы, их значимости для самопознания, воспроизведения самочувствия человека, погруженного в естественную среду.
А. грин, пейзаж, природа, психологический, рассказ, самосознание, свет, синестезия, цвет
Короткий адрес: https://sciup.org/147236772
IDR: 147236772 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.17072/2073-6681-2021-4-123-128
Текст научной статьи Художественные функции пейзажа в ранней прозе А. Грина (Остров Рено)
заж занимает значительное место, он создается по различным принципам, как и художественное пространство в целом, которое «предстает в виде гештальтов, фреймов, пропозиций, метафорических и метонимических моделей» [Прокофьева 2005: 87]. Пейзаж вводится в текст как психологическая характеристика персонажа, описательный фрагмент окружающей среды, выражение суждений и понятий, ассоциативный образ. В ранней прозе Грина наблюдается два типа пейзажей – с преобладанием описаний природы как таковой и с ориентацией на ментальные характеристики героя.
К первому типу принадлежат такие реалистические рассказы 1900-х гг., как «В Италию» (1906), «Случай» (1907), «Марат» (1907), «Кирпич и музыка» (1907), «Лебедь» (1908), «Окно в лесу» (1909) и др. В них пейзаж целенаправленно отражает узнаваемую реальность, является фактом миропорядка. В произведениях конца 1900-х – начала 1910-х гг., отмеченных в той или иной мере чертами романтизма, например в рассказах «Она» (1908), «Трюм и палуба» (1908), «Капитан» (1908), «Остров Рено» (1909), «Колония Ланфиер» (1910), «Пролив бурь» (1910), «В снегу» (1910), «Трагедия плоскогорья Суан» (1912), «Жизнь Гнора» (1912), активную роль играют своеобразные картины природы, которые представляют собой, как справедливо отмечает Н. Кобзев, «единственно жизнеспособствующую среду для персонажей романтика» [Кобзев 1995: 14]. Герои, как правило, вступают в эмоциональную связь с природой.
Если воспользоваться классификацией пейзажей, предложенной Н. Б. Боевой, то можно сделать вывод о представленных в рассказах Грина «компактно-дескриптивном и дисперсивно-дес-криптивном видах пейзажа» [Боева 2004: 190– 194]. Описание природы может быть компактным, локально цельным. Например, сюжет рассказа «Острова Рено» (1909) разворачивается на фоне целостного берегового ландшафта. Вместе с тем пейзажные детали рассредоточены по фрагментам текста.
Функциональная значимость пейзажа в мировоззренческом, психологическом содержании, сюжете, композиции повествования особенно показательна в рассказах Грина с романтическим компонентом.
Через природу проявляется «модусный план художественности текста» [Уржа 2010: 253]; пейзаж играет особую роль в раскрытии константной темы прозы Грина – границ свободы человека, столкновения воли человека и вторгающейся в его жизненное пространство чужой воли. В большинстве рассказов Грина вопрос свободы – онтологический, относящийся к ха- рактеристикам бытия. Образ бытия в его рассказах создается через отношения человека и универсума, выраженного, как правило, в пейзажных картинах.
В «Острове Рено» герой по имени Тарт, которому природа далекого острова дает ощущение абсолютной свободы, терпит поражение. В рассказе выражена идея вынужденной ограниченности индивидуальной свободы, тщетности волевых усилий человека обрести свободу от людей. Эскапизм героя не состоялся: он убивает угрожающих его независимости матросов, но сам сражен ответной пулей. Таким образом, в рассказе Грин выразил отрицание обоюдного, направленного друг на друга насилия; как сказано Тартом, «силой нельзя сломать силу без риска проиграть свою собственную карту» [Грин 1991: 228]. Если Н. Бердяев писал, что «в свободе скрыта тайна мира», что свобода ‒ «путь раскрытия в человеке универсума» [Бердяев 1990: 51, 58] и сам он от многого мог отказаться ради свободы, то Грин как раз изобразил именно такое самосознание человека. Но Грин показал и иллюзорность неограниченной свободы.
Судьбе Тарта Грин придает по-романтически роковой смысл, что отразилось в изображении природы. Например, в экспозиционных пейзажах планетарному пространству (могучий океан, красный полудиск солнца на горизонте, Южный Крест) противопоставлено пространство локальное, отведенное человеку: лейтенанту судна, на котором служил Тарт, казалось, что он смотрит на суживающуюся даль горизонта словно из щели черной коробки. Символичен образ синего неба, данный в эпизоде убийства Тартом матроса Блемера: посмотрев в небо, раненый Блемер подумал о смерти, а Грин этой же пространственной композиции придает экзистенциалистскую коннотацию: «Равнодушно-спокойное и далекое, синело небо. А внизу, обливаясь холодным потом агонии, умирал человек, жертва свободной воли» [Грин 1991: 228]. Грин, противопоставляя «равнодушно-спокойную» небесную сферу и человека, погружающегося в смертельную агонию, через повтор цветовой характеристики (синее небо и синеватые тени вокруг глаз Блемера) выражает мысль о принадлежности умирающего небесам.
Конфликт между Тартом и матросами – конфликт между личностью и коллективом, он разрешается ликвидацией противника. Природа вызывает в Тарте дикого зверя, мотивация жизни которого – «каждый за себя» [там же: 234]. В образе Тарта, «крайне самолюбивого, бесстрашного и стремительного» [там же: 230], усматривают ницшеанский «культ сверхчеловека» [Козлова 2004: 71], однако в максимализме героя, жизнь которого подчинена всепоглощающему желанию свободы в новом для него мире, проявляется прежде всего черта героя романтического склада. Вместе с тем в нем нет романтического демонизма, а в его поступках проявилась вынужденная ответная реакция на попытку насильно возвратить его на клипер – к однообразию существования в социуме.
Пейзаж описан через восприятие героя. Грин использует лексику феноменологического смысла («казалось»), прибегает к синестезии («сочных узоров»), изображает тактильные ощущения (лесная глушь героя «хлестала», «резала», «ушибала», ноги «проваливались в пышном ковре», «он схватывал влажные стебли, паразитов, хрупкую клетчатку листьев, мелкие гнущиеся колючки») [Грин 1991: 220], ставит акцент на зависимости самочувствия Тарта от островных растений («цветы кружили голову смешанным ароматом», «утомляли зрение, дразнили и восхищали») [там же: 218]. Контакт Тарта с природой показан как эмоциональная реакция на увиденное: он захмелел от благоухания воздуха, он счастливо смотрел на открывшийся ему мир с недоумением, он испытал тревогу от покачнувшейся сливы, испытал гадливость от вида змеи и т. п. Чередование зеленого цвета и мрака вызывает у Тарта тревогу, что в развитии сюжета выполняет априорную функцию. Восприимчивы к состояниям природы и другие персонажи рассказа. Например, ночное пространство изображено через ощущения лейтенанта: «ветер тянул с берега пряной духотой и сыростью береговой чащи» [там же: 214]; лейтенант всматривался в берег, поддавшись «сонному очарованию» [там же: 217].
В отношении героя к природе объединены эстетические, когнитивные и психологические характеристики. При этом в основу ряда эпизодов положен принцип «полисенсорной композиции» [Ляпина 2014: 147]. Грин выстраивает и контрасты, и причинно-следственные цепочки душевных состояний. Как сплетаются ветви и листва деревьев, как в природном пространстве сочетаются контрасты, так в Тарте синтезированы противоположные состояния ‒ опьянение и тревога. Тревога, о которой Грин упоминает не раз, ‒ эмоциональное состояние, позволяющее «реагировать в угрожающих ситуациях адаптивным способом» [Хьелл, Зиглер 1997: 127]; она порождена фактом присутствия в чужом месте и, как правило, «обусловлена боязнью, что эго окажется неспособным контролировать инстинктивные побуждения» [там же: 128]. Грин показывает, как тревога пробуждает инстинкт самосохранения: «держа палец на спуске ружья <...> вздохнул и бессознательно осмотрелся» [Грин 1991: 219], а также агрессию: «он ударил змея стволом штуцера» [там же: 219]. Вслед за тревогой рождается потребность борьбы с темным лесом: герой ощущает себя живым телом, лес – стеной.
Чувство опьянения от чрезмерности ощущений передано через синкретическую образность: «сырой, пряный воздух» [там же: 220], через амплификацию: «темнота дышала гнилой прелью, жирным, душистым запахом разлагающихся растений и сыростью» [там же: 219], через несоответствие физического состояния и эмоционального: «Ноги устали, хотелось пить, но светлое, восторженное опьянение двигало им, заставляя идти без размышления и отчета» [там же: 219]. С эйфорией героя связаны галлюцинации: «он кружится на одном месте в странном, фантастическом танце, что все живет и дышит вокруг него, а он спит на ходу» [там же: 219]. Кроме того, дикая природа приводит Тарта в экстатический восторг. Как пишет В. Е. Хализев, «общение человека с невозделанной природой и ее стихиями предстало как великое благо» [Хализев 2004: 228].
Полисенсорность придает пребыванию героя на острове ощущение полноты жизни, контрастирующей с тремя годами службы на корабле. Полисенсорности психологического рисунка соответствует вариативность состояний природы. Например, в рассказе говорится о тишине как идеале, о тишине тревожной, напряженной – гнетущей, испуганной, жуткой и стремительной [Грин 1991: 227, 232, 233, 234].
Другой тип восприятия природы – ее мифологизация. В глазах Тарта остров является «маленьким раем», где можно потерять память о темном прошлом и отдаться мечтам и воспоминаниям о «праздничных днях», «любимой женщине», «охоте в родных лесах» [там же: 222]. Так в мифологизированное пространство встраивается вертикальная модель времени. В Тарте, по сути, просыпается ощущение изначальной, райской, безмятежности, вытесненное в сферу бессознательного. Грин подчеркивает соответствие эмоций Тарта состоянию детства: радуясь, как ребенок; как детский сон [там же: 218, 219]. Как утверждал современник Грина А. Абрагам, «миф есть сохранившийся отрывок детской духовной жизни народа, а сновидение – миф индивидуума» [Абрагам 1912: 110–111].
Мифологизация природы происходит через сновидения героя. Грин вводит в текст мотив сна, отражающего полярные ситуации островного существования героя. Во-первых, это «душистый, тихий океан сна, где бродят исполненные желания и радость, не омраченная человеком» [Грин 1991: 223], и, во-вторых, сон о природе как обозначение смерти. Идентичность сна и смерти – архаичная мифологема, замыкающая исто- рию Тарта сочетанием трагедии и идиллии. Образы смертного сна созвучны предшествующему сну об исполнении желаний (по З. Фрейду, «сновидение есть осуществление желания» [Абрагам 1912: 88]), но противоположны в событийном смысле.
В рассказе пространство дикой природы мифологизируется и как мир зла. Источником такой интерпретации служат домыслы Блемера: остров – чужое, опасное место, где Тарт мог повеситься или мог быть съеден орангутангом, мог увидеть дьявола или сойти с ума, «прикоснувшись» к здешним болотным цветам. Негативное восприятие острова усилено строкой из неотправленного письма Риля – земляка Тарта: «Толкуют, прости меня, господи, что Тарт сошелся с дьяволом. Это для меня неизвестно» [Грин 1991: 232].
Приведем обширную цитату: «Серо-голубые, бурые и коричневые стволы, блестя переливчатой сеткой теней, упирались в небо спутанными верхушками, и листва их зеленела всеми оттенками, от темного до бледного, как высохшая трава… Казалось, что из огромного зеленого полотнища прихотливые ножницы выкроили бездну сочных узоров. Густые, тяжелые лучи солнца торчали в просветах, подобно золотым шпагам, сверкающим на зеленом бархате. Тысячи цветных птиц кричали и перепархивали вокруг. Коричневые с малиновым хохолком, желтые с голубыми крыльями, зеленые с алыми крапинками, черные с фиолетовыми длинными хвостами ‒ все цвета оперения шныряли в чаще, вскрикивая при полете и с шумом ворочаясь на сучках. Самые маленькие, вылетая из мшистой тени на острие света, порхали, как живые драгоценные камни, и гасли, скрываясь за листьями. Трава, похожая на мелкий кустарник или гигантский мох, шевелилась по всем направлениям, пряча таинственную для людей жизнь. Яркие, причудливые цветы кружили голову смешанным ароматом. Больше всего было их на ползучих гирляндах, перепутанных в солнечном свете, как водоросли в освещенной воде. Белые, коричневые с прозрачными жилками, матово-розовые, синие ‒ они утомляли зрение, дразнили и восхищали» [там же: 218].
Здесь продуктивны доминантные в прозе Грина средства изображения природы. Например, в этом фрагменте обнаруживается тургеневская традиция ‒ «изображение динамизма природы в состоянии покоя» [Староверова 1980: 3]. Семантика умиротворенности дополнена лексикой движения (явного и опосредованного): переливчатой, спутанными, выкроили, кричали и перепархивали, шныряли, ворочаясь, вылетая, порхали, скрываясь, шевелилась, пряча, перепутанных.
В цитате многообразие пейзажа проявляется через полихромию дикого леса. Грин акцентирует внимание на цветовых и световых характеристиках. Он предпочитает ясные, ахроматические цвета и прибегает к контрастам: различные цвета стволов ‒ серо-голубые, бурые, коричневые ‒ контрастируют с зеленым цветом листьев, интенсивность которого подчеркнута глаголом «зеленеть». Цветовая гамма природы обозначена обобщающей характеристикой «от темного до бледного». В изображении птиц используются цветовые контрасты: коричневые с малиновым, желтые с голубыми, зеленые с алыми, черные с фиолетовыми.
Многомерность пространства создается через световые характеристики. Упоминание о просветах придает картине леса оптическую перспективу. Объемность пространства достигается лексемами густые, тяжелые лучи, просветы, прозрачными, острие света ; этому же служит сравнение древесных гирлянд с «водорослями в освещенной воде». Словосочетание «золотые шпаги» усиливает степень визуализации.
В ряде пейзажных фрагментов текста Грин прибегает к сгущению цветовых контрастов. Так, в описании водопада дана групп лексем одного смысла: серебряная, прозрачное, жидкое серебро, стеклянная, сверкающим градом брызг [Грин 1991: 221]. Грин насыщает цвет гаммой оттенков. Показательно описание зеленого луга; помимо светового качества ( яркий, мягкий, чистота тона ) автор указывает на нюансы зеленого: сочный зеленый, темно-зеленый, изумрудный, бархатно-зелен ; последний вместе со словосочетанием «зеленый шелк» имеет тактильную коннотацию [там же: 220]. Так Грин достигает многообразия и в монохромном изображении природы. Эту же специфику отмечаем в описании скал: темно-розовый, красноватый, коралловый [там же: 221].
В стиле рассказа встречаются метафоры ( стволы упираются, трава прячет, птицы гаснут ), Грин активно использует гиперболы ( тысячи птиц, бездна узоров ), сравнения (бледная листва сопоставлена с высохшей травой, солнечные лучи ‒ с золотой шпагой, трава ‒ с кустарниками и мхом, растительные гирлянды ‒ с водорослями) и др. Из названных приемов наиболее частотны метафоры. Например, в лаконичном изображении водопада представлен ряд антропологических тропов: неудержимая, теснясь, ныряя, прыгал, сеял, игра воды [там же: 221]. В рассказе тропы сочетаются с фантастическими картинами, рожденными экспрессивной эмоциональностью (например: «Бессознательно, страстно, ослепленный и задыхающийся» [там же: 220]).
Итак, уже в ранней прозе Грина широко использованы средства вербального воссоздания бытия природы и бытия человека. Всевозможные проявления природы фокусируются в сознании героя, характеризуя его перцептивные возможности. Густота пейзажных образов в рассказе «Остров Рено» свидетельствует не только о мастерстве Грина-пейзажиста, но и об усилении в его произведениях психологизма.
Список литературы Художественные функции пейзажа в ранней прозе А. Грина (Остров Рено)
- Абрагам К. Сон и миф. Очерк народной психологии. М.: Современные проблемы, 1912. 120 с.
- Бердяев Н. Самопознание (опыт философской автобиографии) / вступ. ст. Ю. П. Сенокосова. М.: Международные отношения, 1990. 336 с.
- Боева Н. Б. Особенности синтаксической организации пейзажных контекстов в современных английских и американских рассказах // Научная мысль Кавказа. 2004. № 12. С. 190-194.
- Грин А. С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1. Рассказы 1906-1912 гг. / сост., вступ. ст. В. Ков-ского; прим. А. Ревякиной. М.: Худож. лит., 1991. 703 с.
- Дмитриевская Л. Н. Пейзаж и портрет: проблема определения и литературного анализа (пейзаж и портрет в творчестве З. Н. Гиппиус). М.: (Ярославль) ООО «Литера», 2005. 135 с.
- Кобзев Н. А. Ранняя проза А. С. Грина. Симферополь: Крымский архив, 1995. 71 с.
- Козлова Е. А. Принципы художественного обобщения в прозе А. Грина: развитие символической образности: дис. ... канд. филол. наук. Псков, 2004. 204 с.
- Ляпина Л. Сенсорная поэтика в русской литературе XIX века. Опыты изучения. СПб.: Pal-marium Academic Publishing, 2014. 169 с.
- Прокофьева В. Ю. Категория пространство в художественном преломлении: локусы и топосы // Вестник ОГУ. 2005. № 11. С. 87-94.
- Староверова В. В. Художественное мышление И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого в изображении пейзажей. Саратов: СГПИ, 1980. 80 с.
- Уржа А. В. Понятие модусного плана произведения и изучение переводов текста // Слово и текст в культурном сознании эпохи: сб. науч. тр. / отв. ред. Г. В. Судаков. Вологда: Легия, 2010. Ч. 5. С. 253-258.
- Хализев В. Е. Теория литературы М.: Высшая школа, 2004. 405 с.
- Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). СПб.: Питер-пресс, 1997. 608 с.