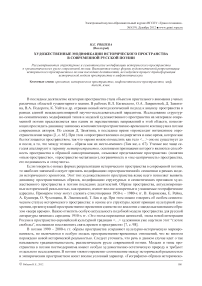Художественные модификации исторического пространства в современной русской поэзии
Автор: Рябцева Наталья Евгеньевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются структурные и семантические модификации исторического пространства в «реалистическом» русле современной поэзии. Выявляются новые формы художественной репрезентации исторического пространства в поэзии последних десятилетий, исследуется процесс трансформации исторической модели пространства в мифопоэтическую.
Хронотоп, историческое пространство, мифопоэтическое пространство, миф, текст, язык
Короткий адрес: https://sciup.org/14821795
IDR: 14821795
Текст научной статьи Художественные модификации исторического пространства в современной русской поэзии
Если говорить о новых формах репрезентации исторического пространства в современной поэзии, то наиболее значимой следует признать модификацию «пространственной» семантики в рамках модели исторического хронотопа. Этот тип художественного пространства яснее всего позволяет выявить динамику пространственных образов, модификацию структурных и семантических признаков художественного пространства в поэзии последних десятилетий. Образы пространства, актуализированные исторической реальностью, как правило, имеют вполне конкретные и узнаваемые географические адресаты. Примером тому могут служить стихотворения 1950-х – 1980-х гг. В. Корнилова, Е. Рейна, А. Кушнера, О. Чухонцева, И. Лиснянской, Т. Бек и др. При этом можно говорить об особом семиотическом статусе исторического пространства: в основе его структуры лежит принцип культурной синхронии, организующий пространственно-временное единство по аналогии с мандельштамовским образом «веера времен». Важно отметить особую актуальность подобной модели пространства для русской литературы начиная с середины 1950-х гг. «Это эпоха переоценки ценностей, эпоха новой интеграции России в пространство европейской культурной традиции <…> художники уже ощутили этот “глоток свободы”, поспешили восстановить связь времен и пространств» [7, с. 98].
В поэзии 1990 – 2000-х гг. образы пространства сохраняют культурно-историческую маркированность, но включаются в особую модель пространственно-временных отношений, что во многом порождено новой исторической реальностью. Следует уточнить, что речь в данном случае идет о так называемом традиционалистском, реалистическом русле современной поэзии. Модели и типы пространства в поэзии постмодернизма имеют особую художественно-эстетическую природу и требуют отдельного исследования. В поэзии «нового времени» соотношение между исторической реальностью и эмпирическим пространством носит вполне условный характер. «Географизм» образов историческо- го пространства в поэзии 1990 – 2000-х гг. нередко либо вовсе отсутствует, либо служит своеобразным сигналом «топонимической узнаваемости».
Наиболее заметно эта тенденция проявляется в поздней лирике В. Корнилова. Его творчество в этом смысле особенно показательно в связи с тем, что поэтический мир автора всегда был отмечен особым вниманием к пространственно-исторической изобразительности. В стихах поэта 1990 – 2000-х гг. историческая маркированность художественных текстов сохраняет свою актуальность, однако раскрывается в иной смысловой проекции. Возникает характерный мотив «конца истории», которому сопутствуют образы «дна», «бездны», «пропасти», «провала», «ямы». В «короткой поэме» «Дно», написанной в преддверии «третьего тыщелетья», семантика отрицания заявлена с первых строк и звучит с присущей поэзии Корнилова иронически-трагической интонацией: Никакого уюта, / Ни кола, ни двора: / Либо крах, либо смута, / Либо в смуту игра [2, с. 367]. Образ «святой Руси» представлен в нетипичном для отечественной культурной традиции ключе: «широта» российского пространства сменяется теснотой, замкнутостью, мотив пути/дороги, странничества заменяется «сплошным бесполётьем»: Богадельня и живодерня / – Наши вечные полюса / – Хоть не больно меж них просторно, / Но страна уместилась вся (Там же). Сквозная для стихов этих лет тема «бездомья» подкрепляется мотивом «безвременья» и формирует особую модель пространственно-временного континуума, приближенную по своим характеристикам к дистопии.
Говоря о динамике образов исторического пространства, необходимо отметить еще одну важную закономерность в поэзии последних десятилетий. Наряду с принципом «культурной синхронии» в создании образов исторического пространства особую значимость начинает обретать обратный принцип – сужения границ пространства и времени, вплоть до подчеркнуто будничного, бытового пространства частного человеческого существования. Поэт пытается зафиксировать неуловимый миг бытия во всей конкретике вещественных деталей. При этом можно отметить определенное соотношение между динамикой пространственных образов и динамикой жанровой системы. Так, в зрелой лирике В. Корнилова отчетливо прослеживается тенденция обращения к таким жанрам, как элегия, натюрморт, лирический портрет. Особое место в творчестве поэта занимает одна из разновидностей жанра лирического портрета. Объектом посвящения становится реальное лицо, с которым В. Корнилов был связан тесными личными, семейными, дружеским связями, но биография которого не стала историческим фактом (например, «Чудак», «Младшей дочке», «Спортлото», «Юрка» и т.д.). В этом лирическом пространстве «частного бытия», очерченного сферами быта, семьи, любви, дружбы, авторский голос лишен иронических интонаций – он серьезен, нередко даже нарочито сентиментален, как, например, в стихотворении «Старая лента» (2000). Лирическая душа героя, уставшая от непосильного «груза» исторической правды, тоскует по «простому, человеческому»:
Оттого, что два тысячелетия Не взвалить на плечи одному, Хочется простого, черно-белого, Нежного и прежнего до слез, В меру незатейливого, бедного, Где с серьезом слился несерьёз, Где в ладах открытое и тайное… И такого просит, чуть дыша, Слабая моя, сентиментальная И многострадальная душа [2, с. 409].
В поздних стихах В. Корнилова топос города также несет на себе печать сентиментально-будничного и оказывается связан с очень личными, порой весьма интимными, воспоминаниями. Отметим, что такое осмысление городского пространства в целом весьма не типично для автора. Так, в стихах В. Корнилова 1970-х – 1980-х гг. городской пейзаж соотнесен с культурно-историческим пространством (например, в стихотворении «Екатерининский канал», в котором актуализируется «петер- бургский текст» русской культуры). В стихах В. Корнилова 1990-х гг. исторические реалии городского пространства вписываются не столько в широкий эпический контекст исторического хронотопа, сколько в лирическое пространство воспоминания. Будничные детали городского пейзажа активизируют в сознании лирического героя скрытые механизмы памяти, воссоздающие живые образы из «ранней жизни». В стихотворении «Кафе» (1999) воспоминание о первом расставании с «ней» представлено в зримой, вещественной конкретике бытовых реалий, ощущений, эмоций: Мы сидели с тобой в кафе, / Над которым была киношка, / И слеза текла по скуле, / И соленой была картошка [2, с. 401]. Значимость события подтверждается указанием точной датировки («полдень», «двадцать первого октября шестьдесят ненастного года»), а также топонимических и географических примет «места расставания» (кафе на Садовом кольце, «над которым была киношка»). Конкретность, «четкость» бытовых деталей художественного пространства реализует эмоционально-психологическую доминанту текста: автор воспроизводит неповторимый миг бытия, сопряженный с целой гаммой переживаемых чувств – любви, страсти, надежды, ревности. Пространство памяти, к которому внутренне причастен лирический герой Корнилова, замкнуто, цельно и гармонично, оно отделено от социально-исторического пространства, дискретного и хаотичного. Таким образом, лирическое пространство памяти в зрелой поэзии В. Корнилова транслирует семиотическую функцию, характерную для культурно-исторического пространства в его ранних стихах. Недаром в последних строках стихотворения мы узнаем о том, что ни кафе, ни над ним кино больше нет на кольце Садовом. Пространство памяти трансформирует «отсутствующее» в координатах исторического хронотопа реальное пространство в «сильную» знаковую реальность текста (полдень тот я навек запомнил).
Пространство памяти становится альтернативой исторической реальности и в стихах таких современных поэтов, как И. Лиснянская и О. Чухонцев. Типы, модели и образы пространства в зрелых стихах Чухонцева и Лиснянской ориентированы на мифопоэтическую модель мира с четким делением на сакральный центр и профанную периферию. При этом бинарная структура мифопоэтического континуума подвергает структурно-семантической диффузии историческую модель пространства, смещая ее на периферию художественного текста. Сакральный центр пространства символизирован в мифологемах Дома/Храма/Сада. Это этический центр художественного пространства, олицетворяющий собой «образец мироустройства», своего рода преображенный «первичный культурный космос» (М.В. Осорина) [5, с. 136]. Историческое же пространство проецируется на образ Империи/Города и воспринимается как «не-пространство», «его отсутствие, воплощением которого является Хаос» [6, с. 233].
Бинарная структура художественного пространства подкрепляется эмоционально-семантической и стилистической маркированностью текста. Периферийное пространство и сакральное пространство центра соотносятся определенным образом в плане эмоциональной насыщенности, экспрессивности художественного языка. Локусу города как проекции имперского пространства соответствует подчеркнуто низкая степень языковой выразительности. Авторское сознание в данном случае «работает» как объектив фотоаппарата, фиксируя лишь отдельные разрозненные предметы дискретной хаотической реальности. Напротив, сакральный центр отмечен высокой степенью художественной изобразительности, экспрессивной насыщенности художественного текста. Кроме того, сакральное пространство мыслится как пространство антропологическое. Лирический субъект не отчужден от этого пространства, а метонимически связан с ним. Ярким примером тому может служить лирика И. Лиснянской 2000-х гг., в частности книга стихов «Иерусалимская тетрадь» (М., 2005). Анализ образной системы книги убеждает в глубоко последовательной ориентации автора на воспроизведение художественной модели мифопоэтического хронотопа, в основе которой лежит идея параллелизма «большого» и «малого», макро- и микрокосма («мир»/«сад» – «человек»). В стихотворении «В монастырском саду» подобный эффект достигается введением целого комплекса космогонической символики. Варьируемый мотив «тесноты» постепенно сжимает пространство до точки – сакрального Центра Вселенной. Одновременно происходит расширение пространства до бесконечности за счет его причастности к вертикальной структуре времени, актуализированной сравнением время-дерево , а также мотивом роста :
Пастбище роз на тесных аллейках. Камень и зелень витых дорог.
Зерна граната в желтых ячейках, В горной ячейке – монастырек.
В трапезной – глиняное убранство, Узкая келья – прообраз теснот.
Здесь, где до минимума пространства, Время, как дерево, вверх растет [3, с. 11].
К мифопоэтической модели пространства тяготеют и зрелые стихи О. Чухонцева, объединенные в книгу «Фифиа» (СПб., 2003). Основным предметом поэтической рефлексии для Чухонцева становится сам язык, который мыслится как некая онтологическая сущность, первичная образная субстанция. Эмпирическое пространство трансформируется в метапространство языка – Логоса. Пространственные образы, на первый взгляд, имеют реальные исторические и географические «прототипы», однако в действительности такое соотнесение весьма условно. Даже реальные исторические топосы утрачивают пространственно-географические характеристики, сохраняя лишь языковую знаковую реальность, как, к примеру, образ Крыма в стихотворении «Закрытие сезона». Кто тут мертвый, а кто живой? Перед кем держать ответ? / Смотришь в сумерки и не видишь, свои ли, чужие лица: / и этот берег, и дом с верандой – плацдарм, которого нет…/ Все здесь смешалось, греки и скифы, восток и запад… [8, с. 273].
Поэт пытается зафиксировать момент перехода внешнего квазипространства, порожденного «химерами сознания», исчезающего в бесконечной череде фантасмагорий, в пространство памяти и языка. В сущности, автор реконструирует модель экзистенциального пространства как пространства-на-гра-нице, между Внешним и Внутренним: «… сами границы как бы распыляются, диффузируют, открывая внешнее внутреннему и наоборот» [4, с. 143]. Поэт фиксирует процесс отчуждения исторического пространства как пространства энтропии от пространства Логоса, используя подчеркнуто «утяжеленный» поэтический слог, заметно усложняя фонетическую и графическую форму стиха, вплоть до физической невозможности произнесения слов в этих «варварских ойкуменах мира»: Я хочу, я пытаюсь сказать, но / вырывается из горла крик… [8, с. 286].
Лирический герой Чухонцева стремится возвратить слову исконный сакральный смысл, утраченный в хаосе повседневности. В этом ключе может быть интерпретирована семантика заглавия книги «Фифиа». Прямое значение слова fifia в языке суахили – ‘исчезать, рассеиваться, улетучиваться, иссякать’. В традициях мифопоэтической космогонии новое пространство будет сотворено Словом, но само слово, чтобы родиться вновь, должно стать Логосом, первоначалом всего сущего. Чухонцев широко варьирует миф о Слове-Психее, показывая рождение Слова из «родного хаоса», священной немоты. Слово обретает архаическую первозданность смысла, и поэт как бы вновь учится словам, воспроизводит звукообразы, наполненные новыми смыслами: Надо, наверное, долго молчать, чтобы заговорить / не словами, а дикими звуками, вскриками смысла… (Там же, с. 272).
Чухонцев пытается возродить суггестивную глубину слова, используя художественные средства и приемы из арсенала авангардной поэтики. Настойчивое обращение поэта именно к этой, нетипичной для него ранее, концепции слова стало особенно очевидным после выхода стихотворной подборки автора «Три стих-я» (Знамя. 2006. №3). Название поэтического цикла весьма показательно: графически и фонетически таким образом реализуется сквозной для зрелого творчества поэта мотив исчезновения . Исчезновение знака – фонемы, буквы – свидетельство утраты смысла, рубежа бытия, за которым открывается бездна. Если в книге «Фифиа» идея исчезновения касалась, главным образом, исторического пространства, дискретного, хаотичного, то в триптихе мотив исчезновения обретает метафизическую окраску с трагически-саркастическим оттенком: обессмысленная реальность, всеобщий конец – истории, культуры, языка.
Каждое стихотворение цикла – это веха на пути утраты. Примечательно, что все три части цикла объединены общей мифологемой моря, которая традиционно соотносится у Чухонцева с образнотематической цепочкой «творчество – язык – память». В трех стихотворениях устойчивый мифокомп-лекс реализует новую семантику – забвение . Лирический герой пытается вспомнить, но смысл таится под глубинами морской воды и ускользает, исчезает. Человеческая память предстает столь слабой и уязвимой, что оставляет на поверхности воды лишь жалкие осколки из прошлого, фрагменты образов, обрывки фраз и слов. С утратой памяти утрачивает свою бытийную сущность сам человек: духовный микрокосм человеческого Я замещается некоей физической субстанцией, пустой телесной оболочкой.
Расставив ноги по ширине культуристских плеч, откинув туловище и выгнув картинно спину и оттопырив локти, как ласты, с которых стечь вода не успела и пот, – подобный пингвину, стоит он у моря, задрав свой нос в небеса… [9, с. 18]
Показательно в этом плане первое стихотворение цикла, открывающееся эпиграфом-палиндромом «О, лето, тело». Телесность, акцентируемая в эпиграфе, обретает особый статус в контексте всего цикла, обозначая идею распада, хрупкости бытия и человека, чья сущность ограничивается лишь телесными инстинктами. Стихотворение поразительно рифмуется с более ранним и широко известным стихотворением поэта из книги «Фифиа» «-Кыё! Кыё». Юродивый немой Кыё, по колено стоя в воде и улыбаясь беззубым ртом , вопрошает обступающую пустоту и, как ребенок, радуется и ликует в своем безумном блаженстве, унося в свой таинственный мир непостижимую разумом тайну бытия. В первой части триптиха перед нами возникает схожая картина, однако герой южного морского пейзажа представлен карикатурно, гротескно: похожий на пингвина, он бросает гордый взгляд в небеса, не обременяя свой разум неразрешимыми философскими вопросами о смысле бытия. В стихотворении иронично переосмыслен миф о «вечном возвращении»: вода как символ времени возвращает гордого в своем всезнании человека не к истокам мифа и культуры, а в эпоху палеолита. Летняя семантика, актуализированная в эпиграфе и реализованная в цикле в целом, также иронически переосмыслена: летний ми-фокомплекс, традиционно соотносимый с идеей Рая, у Чухонцева обретает подчеркнуто сниженное значение с доминантой «телесности»: коптя на холодном огне свои телеса / до теплой бронзы, / когда не кожа, а шкура...
Вторая часть триптиха усиливает ощущение утраты бытия через последовательное исчезновение языкового пространства. В стихотворении отсутствует единый субъект сознания – многоголосие «обитателей» летнего приморского отеля воспроизводит мифологическую ситуацию вавилонского столпотворения и в то же время подчеркивает хаос той реальности, в которую замкнут человек (мотив тесноты и образ замкнутого пространства актуализируются на протяжении всего произведения). Традиционно именно с языком, со Словом-Логосом связывается идея гармонизации хаотического, дискретного мира. Однако пространство языка, воспроизводимое в стихотворении, свидетельствует о том, что язык утратил свою сакральную функцию, слово сохраняет лишь внешнюю оболочку, лишаясь глубинного внутреннего смысла. Отсюда характерная языковая структура второй части, которая практически вся построена на палиндромах, обрывках диалогов и реплик отдыхающих турецкого мотеля. Примечательно, что стихотворение открывается эпиграфом «А – Г». Первые четыре буквы алфавита – малый остаток от того утраченного гармоничного космоса, который замещает собой бессмысленную вереницу слов и фраз многолюдной гостиницы.
В книге «Фифиа» такой путь умирания-возрождения проходит Иона-пророк, заключенный во чрево кита, пытаясь молитвой обороть строптивость ума, преодолеть темноту-тесноту обступающего хаоса, собственного безверия и отчаяния. В стихотворении об Ионе-пророке возникает образ незыблемого храма, путь к которому лежит через духовное перерождение. Кит рассекает воды времени, воды языка, в глубину которых устремляется лирическое Я поэта. Путь к храму, сакральному цент- ру – это путь «от мирского к сакральному, от эфемерного и иллюзорного к реальности и вечности, от смерти к жизни, от человеческого к Божественному» [10, с. 32–33]. Итогом пути в книге «Фифиа» становится образ «храма златоглавого» в «белом городе» на «белой горе», однако, примечательно, что в стихотворении изображена лирическая ситуация, в которой герой не достигает цели своего метафизического пути, а пребывает в постоянном духовном поиске, в движении к храму, о чем свидетельствует форма будущего времени глагола: Я пойду туда, неслух, повиниться, / перед храмом в пыль-песок повалиться… / не суди меня, Господь, судом строгим, / а суди, Господь, судом милосердным, / как разбойника прости и помилуй… [8, с. 313].
Путь к храму, путь «умирания-воскресения», духовного перерождения должны пройти и обитатели приморского отеля. В цикле «Три стих-я» вместо мифообразов храма/дома/сада мы встречаем топосы, отмеченные негативной семантикой: мотель (метафора временного пристанища человека, томимого в земной юдоли), театр (образный аналог «балагана» и связанного с ним мотива лицедейства), кабак . Топос отеля в этом контексте обретает особый смысл – он метафорически сближается с образом кита, в темную и тесную утробу которого был заключен Иона. Человек у Чухонцева находится лишь в начале трудного пути к Храму, ему предстоит заново освоить каждую букву пространства-языка, вернуть слову и бытию утраченный смысл. Ироничный голос поэта в заключительных строках стихотворения сменяется лиричной интонацией; бытовое пространство замещается культурными мифологемами, актуализирующими в читательской памяти миф об Эдеме. Тривиальный сюжет курортного романа в финале получает кардинально новое прочтение, обретает высокий сакральный смысл, побуждая искать в тайниках прапамяти те образы, которые напомнят об утраченном рае: Мед этот – тот Эдем .
Пространства языка и памяти становятся предметами авторской рефлексии и в третьем заключительном стихотворении цикла. Последняя часть триптиха расширяет тему «памяти-забвения» до границ памяти истории. Механизм человеческой памяти связывается с логикой исторической памяти: Концы история прячет в воду . Лирический герой стихотворения пытается восстановить в памяти распавшуюся связь между историческими событиями и явлениями, но суть их ускользает, глубинные связи остаются невосстановимыми, на поверхности же сознания оказываются разрозненные факты, имена и даты. Центральные образы стихотворения соотносятся с реальными топонимами – Анталией и Крымом, вместе тем указание на топонимическую прикрепленность оказывается весьма условным. Географическое пространство утрачивает целостность и реальные пространственно-географические характеристики, замещается знаком, именем, но с утраченным историко-культурным содержанием. Чухонцев показывает невосстановимую логику ассоциативной исторической памяти. Лирический герой пытается вспоминать Царьград на турецком пляже , но его память скользит по поверхности вод и не способна проникнуть в глубинную суть вещей, проследить взаимосвязь событий: ты б еще самаринский вспомнил дом / над измалковским прудом, / – не можешь даже и понять, / при чем тут славянофилы [9, с. 19]. Авторская ирония относительно идеи панславизма со столицей в Царьграде проецируется на замутненное дремой и текилой сознание российского обывателя, отдыхающего «на турецком пляже» и «вспоминающего» Царьград как несбывшуюся столицу славянского мира. Скользить по поверхности вод – таков, согласно Чухонцеву, удел человека, чей разум способен осязать и осмыслить лишь внешнюю эмпирически данную реальность. Бескрайнее пространство морского пейзажа – метафора глубины, исторической прапамяти – иронически сужается до образа будничной реальности, узкими рамками которой ограничивается человеческий разум, – «стакана со льдом»: причем тут славянофилы, / если вот реальность: стакан со льдом.
Глубинную суть вещей и явлений возможно лишь почувствовать, увидеть внутренним зрением, проникнув в скрытые глубины языка-Логоса и исторической прапамяти. Слово – средоточие Истории, укорененной в человеческом сознании. На пути к Дому Языка, к Храму пребывает герой зрелой лирики Чухонцева, изживающий молитвой «строптивость ума» и чутко внимающий сердцем многоголосие ускользающего в хаотическом потоке мира.
Таким образом, историческое пространство подверглось значительным семантическим и структурным модификациям в поэзии последних десятилетий.
В творчестве целого ряда современных поэтов наблюдается очевидная диффузия модели исторического пространства, которое утрачивает прямую соотнесенность с исторической реальностью и становится постепенно органичной частью бинарной структуры мифопоэтического хронотопа. Между историческим и мифопоэтическим пространствами устанавливаются сложные, амбивалентные семантические связи. Реальность историческая, спроецированная на культурно-исторические мифологемы, трансформируется в мифотекст, становится частью «сильного» сакрального пространства.
Список литературы Художественные модификации исторического пространства в современной русской поэзии
- Замятин Д.Н. Метагеография: пространство образов и образы пространства. М.: Аграф, 2004.
- Корнилов В.Н. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 1: Стихи и поэмы. М.: Хроникёр, 2004.
- Лиснянская И. Иерусалимская тетрадь. М.: О.Г.И., 2005.
- Подорога В.А. Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии: С.Киркегор, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, М. Пруст, Ф. Кафка. М.: Наука, 1995.
- Савина Л.Н. Идиллический хронотоп дворянской усадьбы и его отражение в автобиографических произведениях С.Т. Аксакова «Семейная хроника» и «детские годы Багрова-внука»//Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. 2012. 4(68). С. 132-136.
- Топоров В.Н. Пространство и текст//Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983, С. 227-284.
- Тропкина Н.Е. Образы исторического пространства в поэзии Арсения Тарковского//Мир России в зеркале новейшей художественной литературы: сб. науч. тр./сост. А.И. Ванюков. Саратов: Изд-во Сарат. унта, 2004. С. 95-99.
- Чухонцев О. Из сих пределов. М.: О.Г.И., 2005.
- Чухонцев О. Три стих-я//Знамя. 2003. №3. С. 18-20.
- Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость/пер. с фр. Е. Морозовой, Е. Мурашкинцевой. СПб.: Алетея, 1998.