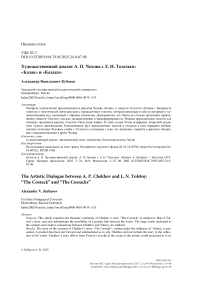Художественный диалог А. П. Чехова с Л. Н. Толстым: «Казак» и «Казаки»
Автор: Кубасов А.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Раскрыта тематическая преемственность рассказа Чехова «Казак» и повести Толстого «Казаки». Выдвинута гипотеза о генетической связи рассказа с прецедентным текстом, который воплощал в себе культурный и художественный код, связанный с образом казачества. Доказывается, что Чехов не столько продолжал проблематику повести Толстого, сколько модернизировал и трансформировал ее. Вторым прецедентным текстом для «Казака» признается рассказ Толстого «Чем люди живы». В этом случае Чехов оспаривает открытый дидактизм чужого произведения. Контаминация двух прецедентных текстов и отсылки к ним отражают амбивалентное сочетание Чеховым учебы у Толстого и полемики с ним, что позволяет говорить о рассказе «Казак» как о знаковом явлении в прозе Чехова.
Художественный диалог, прецедентный текст, казачество, богоискательство, Чехов
Короткий адрес: https://sciup.org/147252332
IDR: 147252332 | УДК: 82-3 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-9-87-98
Текст научной статьи Художественный диалог А. П. Чехова с Л. Н. Толстым: «Казак» и «Казаки»
, https://orcid//org/0000-0001-9074-1133
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-00762, , ИРЛИ РАН
, https://orcid//org/0000-0001-9074-1133
Acknowledgements
The study was supported by the grant of the Russian Science Foundation no. 24-18-00762, , IRLI RAS
Первая встреча А. П. Чехова с Л. Н. Толстым состоялась 8 августа 1895 г. в Ясной Поляне. Затем писатели виделись еще десять раз. Последний очный разговор у них произошел на даче С. В. Паниной в Гаспре 31 марта 1902 г. Эта сторона отражена в мемуарах современников Толстого и Чехова, а также в эпистолярном наследии писателей. Заочное их знакомство по художественным произведениям друг друга произошло намного раньше первой встречи.
Сравнительный анализ произведений Толстого и Чехова был начат еще при жизни обоих авторов. В библиографическом справочнике, составленном А. П. Чудаковым, отмечено более четырехсот критических публикаций, в которых упоминались оба писателя [Чудаков, 2023, т. 2, с. 317–318]. Важными вехами в данном направлении в более позднее время стали монография В. Я. Лакшина «Толстой и Чехов» [1976], сборник «Чехов и Лев Толстой» [1980], справочник «Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. Рассказывают современники, архивы, музеи» [1998]. Однако анализ творческих связей писателей не может быть признан исчерпывающим и требует дальнейшего изучения.
Выделяют группу рассказов Чехова, написанных в 1886–1887 гг., которые принято называть «толстовскими», так как их тематика или проблематика перекликается с той, что нашла воплощение в произведениях Толстого. Это рассказы «Хорошие люди», «Нищий», «Встреча», «Письмо» («Миряне») и «Казак». Конечно, творческое взаимодействие писателей не ограничивается этим перечнем, однако показательно, что все названные рассказы созданы в течение примерно двух лет. Это время ознаменовано переходом Чехова от юмористики к серьезным социально-психологическим произведениям, который завершится публикацией повести «Степь» в 1888 г. Молодой писатель активно осваивает в это время опыт признанных мастеров отечественной и мировой словесности. В ряду литературных учителей Чехова не мог не быть и Толстой. Одна из страниц длительного художественного диалога Чехова с Толстым связана с произведениями, перекликающимися своими названиями: «Казаки» и рассказ Чехова «Казак».
В комментарии к повести в академическом собрании сочинений отмечено, что писатель вынашивал ее более десяти лет, «несколько раз на ходу работы меняя свой план, размеры замысла, ход действия, имена и характеры действующих лиц», поэтому «история создания “Казаков” сложна и нелегко поддается изучению» (Толстой, 1936, т. VI, с. 271) 1. Повесть опубликована в 1863 г. и не раз переиздавалась.
«Казаки» были хорошо знакомы Чехову, иначе он не мог бы рекомендовать их для чтения Алексею Долженко, своему двоюродному брату: «Пока живешь у нас, почитай Толстого.
Он на полке. Найди рассказы “Казаки”, “Холстомер” и “Поликуша”. Очень интересно» (Чехов, 1976, П. 4, с. 226) 2. Чехов советовал родственнику начать с относительно небольших произведений, связанных между собой по содержанию с народной жизнью.
Приступить к сравнительному анализу «Казаков» и рассказа Чехова уместно с чеховской «Литературной табели о рангах» (1886), где Толстой поставлен во главу русской литературы, с присвоением ему условного чина «тайного советника». В год публикации чеховской миниатюры Толстому пятьдесят восемь лет, он признанный классик русской литературы, а двадцатишестилетний Чехов завершал активное сотрудничество с юмористическими журналами и принимался за работу над социально-психологическими очерками, которые печатались в «Новом времени» А. С. Суворина и в «Петербургской газете» С. Н. Худекова.
Кратко изложим историю создания Чеховым рассказа «Казак». 2 апреля 1887 г. писатель выезжает из Москвы в Таганрог. Одна из причин поездки – плохое состояние здоровья и желание встретить весну на юге. По дороге на имя сестры он высылает открытку, адресованную всем домашним: «Я в Орле. 4 часа 50 мин. утра. Пью кофе, похожий вкусом на копченого сига. На полях снега нет. Ехать не скучно. Нет конвертов, потому не шлю дневник. Во всём слушайтесь Ваню. Он положительный и с характером». Иван Павлович Чехов будет одним из важных лиц для истории рассказа. Дорога Чехова в родной город оказывается достаточно длинной. Из Славянска 4 апреля высылается следующая открытка, содержащая поздравление семейства с наступающей Пасхой: «Христос воскрес! Ведь это письмо Вы получите на 2–3 день праздника». В 1887 г. Пасха приходилась на 5 апреля. В Курске у Чехова происходит пересадка в другой поезд. О своих новых попутчиках он будет писать в большом письме, своеобразном отчете о поездке: «Вагон битком набит. Тотчас же после Курска знакомство: харьковский помещик, игривый, как Яша К<орнеев>, дама, к<ото>рой в Петербурге делали операцию, тимский исправник, хохол-офицер и генерал в военно-судейской форме. Решаем социальные вопросы » (П, т. 2, с. 56). В Таганрог Чехов прибыл 4 апреля. 7 апреля он пишет письмо Н. А. Лейкину, где сообщает: «Написал в “Газету” рассказ и сейчас повезу его на вокзал вместе с этим письмом». Речь идет как раз о «Казаке», 13 апреля он будет напечатан в «Петербургской газете». Несмотря на то что рассказ не попал в пасхальный номер, по времени своего создания и по содержанию его следует отнести к пасхальным произведениям Чехова, для которых одним из ключевых был вопрос веры в Бога.
Итак, «Казак» был написан между 4 и 7 апреля. Другое заключение не столь однозначно. Можно предположить, что попытка попутчиков Чехова решать в вагоне «социальные вопросы» каким-то образом отразилась на содержании написанных вскоре рассказов. Вполне вероятно, что в ходе дорожных дебатов возникало и имя Толстого, занимавшего активную позицию в решении актуальных общественных проблем. Такая практика «художественных ответов» на полемический социально-публицистический контекст будет свойственна Чехову и в последующее время.
«Казак» прошел незамеченным современной Чехову критикой. Рассказ оставался (да и остается) во многом в тени еще и потому, что не вошел в сборники писателя, которые анализировались охотнее, чем единичные его произведения. Показательно, что А. П. Чудаков в своем уникальном указателе не приводит ни одной ссылки на критические отзывы, связанные с этим рассказом. Однако есть очень важное замечание о нем частного порядка, которое подтверждает его «толстовский» характер. Сделано оно Иваном Павловичем Чеховым. В письме к брату 23 апреля 1887 г. он писал: «“Казак” уж чересчур толстовистый, а “Кролик и удав” будильничный...» [Летопись…, 2000, с. 307]. Иван Павлович занимал особое место в семействе Чеховых. Он воплощал, так сказать, личностную норму, что проявлялось в отсутствии у него как явных талантов, так и пороков или серьезных недостатков. Его устойчивая характеристика в письмах Чехова – «положительный и с характером». Это раскавыченные слова их отца, Павла Егоровича, понятные всем членам семьи. По мнению Ивана Павловича, связь рассказа с проблематикой произведений Толстого была слишком очевидной, что воспринималось им как просчет брата-писателя, как проявление его недоверия к эстетическому опыту реципиентов. Не менее важна вторая часть отзыва, где «Казаку» противопоставлена юмореска «Удав и кролик». Она была напечатана через неделю после «Казака» в той же «Петербургской газете», однако Иван Павлович уловил в ней явный привкус произведений, характерных для юмористического журнала, что объясняется неудачей первоначальной попытки Чехова опубликовать рассказ в «Осколках» у Лейкина. Сходство столь разных произведений, как «Казак» и «Удав и кролик», в их акцентированной связи с контекстом чужих произведений или изданий, бывшей очевидной для многих читателей.
Готовя «Казака» для собрания сочинений у А. Ф. Маркса, Чехов внес в рассказ стилистическую правку, сократил его, изменил конец, но в конечном итоге отказался от включения в готовящееся издание (т. 6, с. 657). Чем можно мотивировать это решение Чехова? Вероятно, главная причина заключается в том, что Толстой ко времени выхода второго тома чеховских сочинений, куда мог бы войти и «Казак», был жив. И если такой не самый искушенный читатель, как Иван Павлович Чехов, признал рассказ «чересчур толстовистым», то сам Толстой с еще большим успехом мог увидеть в нем преломление своих тем и мотивов. Дополнительной мотивировкой отказа от повторной публикации рассказа можно признать изменение жизненных обстоятельств. Ко времени издания собрания сочинений у Маркса писатели были уже лично знакомы друг с другом, и Чехов, видимо, хотел исключить возможность прочтения Толстым рассказа более чем десятилетней давности, написанного на скорую руку под влиянием литературного мэтра.
Содержание рассказов, публикуемых Чеховым в «Петербургской газете», отчасти зависело от необходимости размещения их в одном номере. Более того, издатель Худеков просил Чехова о еще большем сокращении присылаемых произведений, чтобы «они не превосходили двух гранок» [Летопись…, 2000, с. 244]. Как следствие, чеховские рассказы в «Петербургской газете» во многом приобретали характер «конспекта». А он, в свою очередь, предопределял суммарность представленного в них художественного мира, некоторую эмблематичность его. Конспективность отчасти компенсировалась широким использованием аллюзий и интертекстуальных отсылок. Лапидарность присуща и прецедентным «Казакам» Толстого, недаром В. Б. Шкловский, наряду с традиционным жанровым определением произведения как повести, называл его еще «великим и коротким романом» [Шкловский, 1981, с. 37].
Н. Я. Берковский оставил проницательное замечание о характере взаимоотношений Чехова с творчеством Толстого: «Он (Чехов. – А. К. ) откалывает от произведений Толстого отдельные фрагменты, придает самостоятельность тому, что у Толстого было бы дробью, частностью . Центры, к которым частности эти тяготели у Толстого, для Чехова потеряли силу притяжения. Он не мог верить в эпопею этических связей между людьми, какой является, например, “Воскресение”, последний великий роман Толстого. Покамест отыщутся новые идейные центры, Чехов предпочитал значительные подробности выписывать отдельно, отдельными рассказами, чем возводить большое художественное здание, в подлинности которого он сомневался» [Берковский, 1985, с. 272]. Рассказ «Казак» можно интерпретировать как опыт Чехова по «откалыванию» от крупного произведения отдельной темы, которая была «частностью» в «Казаках» Толстого. Кроме того, рассказ Чехова может быть связан и с другими произведениями Толстого. А. С. Мелкова пишет по этому поводу: «Идея братской, всепрощающей любви к ближнему нашла отражение в рассказах “Казак” и “Миряне”. В первом ощутима сюжетная общность со сказкой Толстого “Чем люди живы”, в “Мирянах” – некоторое тематическое сходство с рассказом Толстого – “Упустишь огонь – не потушишь”» [Мел-кова, 1977, с. 317].
Обратимся к тексту рассказа Чехова, для обоснования гипотезы о его связи с «Казаками» Толстого, а также с дидактическим рассказом «Чем люди живы».
« Арендатор хутора 3 Низы Максим Торчаков, бердянский мещанин , ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освященный кулич » (т. 6, с. 164). В первой фразе определены хронотоп и герои рассказа: Максим Торчаков живет в городе на берегу Азовского моря, он недавно женился и теперь едет после Пасхи с арендованного им хутора домой. Сюжет рассказа связан с архетипическим событием «встречи в дороге», которому отдал дань и Толстой. У Чехова отметим в этой связи рассказ «Встреча», который, наряду с «Казаком», признается написанным под влиянием Толстого [Кубасов, 2020]. Хронотоп встречи в дороге выступает как реализация концептуальной метафоры жизненного пути, выбора героем своего будущего.
Первые два слова «Казака» нуждаются в комментарии. У современного читателя может возникнуть вопрос: какой смысл в указании на то, что герой, оседло проживающий в Бердянске («бердянский мещанин»), вдобавок к этому арендовал «хутор Низы»? Деталь открывала фабульную возможность показать героя в пути от хутора к дому. Вместе с тем она характеризует уровень материальной состоятельности Максима Торчакова. В исследовании по истории хуторского хозяйства казаков сказано, что «разрешалось в частновладельческих хуторах селить совершенно посторонних людей, не принадлежащих к Войску. И чем больше по занимаемой площади хозяину хутора принадлежала заимка, тем больше требовалось работников для обслуживания созданного в ней хозяйства» [Федина, 2017, с. 7]. Главный герой рассказа не относится к казацкому войску, он зажиточный горожанин, который стремится к еще большему обогащению и имеет возможность арендовать хутор, а также держать наемных работников. Таким образом, с самого начала рассказа отмечается материальная состоятельность героя и подготавливается противоречие между нею и готовностью пожертвовать малой толикой ее в пользу бедного. Отметим перекличку названия хутора «Низы» с локусом повести «В овраге» (1899), где социальный конфликт между богатством и бедностью тоже значим.
Если повесть Толстого основывалась на опыте жизни писателя на Кавказе, то рассказ Чехова – на опыте его степной жизни в Приазовье. Образы разных мест передаются пейзажами. У Толстого он достаточно пространен:
Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло . Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная, в несколько верст, тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по дорогам, везде было пусто (т. VI, с. 18).
Далее дается развернутое описание станичного вечера.
У Чехова представлен «конспект» степного пейзажа, состоящий из трех фраз:
Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился . Было тихо... Перепел кричал свои: «пить пойдем! пить пойдем!», да далеко над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа (т. 6, с. 164).
Позже появится вторая картина:
На востоке, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи солнца; послышалась песня жаворонка (т. 6, с. 166).
Разбив пейзаж на части, Чехов создает впечатление динамики внешнего действия и его временной протяженности. Описание степи предвещает то, что вскоре будет художественным центром этапной «Степи». Александр Чехов написал брату о впечатлении Буренина от пейзажей в этой повести: «Такие описания степи, как твое, он читал только у Гоголя и Толстого» [Письма А. П. Чехову…, 1939, с. 198]. Степной пейзаж у Толстого Чехов мог помнить, в том числе и по «Казакам».
Намеченная интрига между названием рассказа и указанным затем социальным статусом героя вскоре получает частичное объяснение: по дороге домой «бердянский мещанин» встречает настоящего казака:
На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Торчаков и его жена увидели оседланную лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, глядел себе в ноги (т. 6, с. 164).
Творческий диалог Чехова с Толстым в «толстовистом рассказе» начинается уже с заглавия. Если автор «Анны Карениной» по традиции выносил в название произведения главного героя, то Чехов делает это на основе метонимического переноса , т. е. по смежности с подлинным главным героем. Безымянный «рыжий казак» с точки зрения фабулы рассказа – лишь эпизодический персонаж, играющий роль стимула для сдвига в сознании Максима Торчакова. Позже самые чуткие критики будут искренне недоумевать по поводу этого принципа номинации некоторых чеховских произведений. А. Н. Плещеев, например, писал в отзыве на его пьесу: «Леший – не есть вовсе центральное лицо, и неизвестно почему комедия названа его именем» [Летопись…, 2004, с. 371]. Различие между прямым и метонимическим наименованием произведений условно можно сравнить с двумя фигурами на плоскости. Первый вариант – это точка, а второй – линия. Линия связывает подлинного главного героя с тем, который вынесен в заглавие, и указывает на скрытое за метонимией некое подтекстное содержание. Название рассказа «Казак» играет роль «указателя» на литературные образы казаков, самым известным образцом которых являются герои повести Толстого. Другая функция такого рода названий заключается в создании Чеховым неравновесной динамической системы персонажей, которая должна отчасти компенсировать фабульную статику. Вспомним в этой связи совет Чехова брату Александру: «Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать» (П, т. 3, с. 188).
Писатель наполняет текст рассказа скрытой символикой. Так, совершенно необязательным представляется указание на то, что встреченный казак был «рыжий». Если же обратиться к чеховской заметке «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.» (1880), то, по мнению молодого писателя, беллетристическим шаблоном стали «белокурые друзья и рыжие враги» (т. 1, с. 17). Встретившийся супругам Торчаковым «рыжий казак» окажется «врагом» для жены Максима, но одновременно неявным «другом» для него самого, потому что поможет ему если и не приблизиться к пониманию смысла жизни, то хотя бы увидеть себя в новом свете и сделать первый шаг на пути преодоления жизненной стереотипности. Это вполне в духе Толстого. Стоит вспомнить Платона Каратаева и Платона Фоканыча из романов писателя.
Встреча супругов Торчаковых с рыжим казаком происходит в середине их пути, «на полдороге к дому». Ситуация «герой на перепутье» является центральной и для повести Толстого «Казаки». Дмитрий Оленин хочет выйти из своего положения дворянина, опроститься, чтобы органично войти в казацкий мир и завоевать любовь Марьяны. Однако это окажется утопическим замыслом и обернется неудачей и необходимостью поиска нового смысла жизни. В качестве более отдаленной интертекстуальной «рифмы» к данной ситуации напомним известные строки из «Божественной комедии» Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу, / Утратив правый путь во тьме долины». Максим Торчаков в результате случайной встречи в дороге тоже утратит «правый путь» и будет мучиться от этого.
Напомним, что «Казак» писался не в Москве, а в Таганроге, а потому Чехов, скорее всего, обращался к повести Толстого по памяти, на «фильтре» которой остались лишь самые важные особенности толстовского текста. Уместно вспомнить слова Чехова о повести «Степь»: «Я знаю, Гоголь на том свете на меня рассердится. В нашей литературе он степной царь. Я залез в его владения с добрыми намерениями, но наерундил немало» (П, т. 2, с. 190). Если Гоголь назван Чеховым «степным царем», то Толстого вполне допустимо признать царем «казацким». Важнейшую роль в его повести играет оппозиция ценностей и культур двух со- циумов – дворянского и казацкого, у Чехова два героя представляют другие социальные страты: мещанство и казачество. При этом казацкие ценности в рассказе фактически не раскрываются. Их нужно знать по казацкой литературной «энциклопедии», в роли которой выступает повесть Толстого. Девиз казачества был «За Бога, Царя и Отечество». В рассказе он имплицитно реализован в кратком диалоге Максима и казака:
– Христос воскрес! – крикнул ему Максим.
– Воистину воскрес, – ответил казак, не поднимая головы.
– Куда едешь?
– Домой, на льготу.
– Зачем же тут сидишь?
– Да так... захворал... Нет мочи ехать.
– Что ж у тебя болит?
– Весь болю (т. 6, с. 165).
Ясно, что казак по состоянию здоровья комиссован из армейской службы и теперь настолько плохо себя чувствует, что не может даже сидеть в седле. Казака отпустили домой, потому что он, скорее всего, находится при смерти. Мысль об этом возникает в сознании Максима: «Чего доброго помрет в дороге…» (т. 6, с. 166). Не менее показателен обмен репликами между Максимом и женой Лизаветой:
Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую салфетку, и сказала:
– Не дам! Надо порядок знать. Это не булка, а свяченая паска, и грех ее без толку кромсать.
– Ну, казак, не прогневайся! – сказал Торчаков и засмеялся. – Не велит жена! Прощай, путь-дорога! (т. 6, с. 165).
Пасхальный кулич, в котором казаку отказали, вполне мог сыграть для него роль последнего причастия. В семейной жизни Максим оказывается далек от казацкого семейного уклада – он подкаблучник, подчиняющийся воле жены. Это вполне допустимо в мещанском быту, но далеко от традиций казацкого общества. В «Казаках» одна из причин неудачи Оленина в его попытке ассимиляции с казаками связана с той же готовностью подчинения женщине. Чехов в рассказе создает ситуацию гипотетического условного развития сюжета повести. Что было бы, если бы Оленин все-таки стал мужем Марьяны? Ответ таков: подчинился бы более сильной воле казачки.
Толстой вынес в заглавие своего произведения не Оленина, а казаков как социальную общность. Писатель дает краткую историю и общую характеристику терского казачества, знакомство же с отдельным казаком начинает традиционно с портрета:
Лукашка, стоявший на вышке, был высокий, красивый малый, лет двадцати, очень похожий на мать. Лицо и всё сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу. <…> по широкому выражению его лица и спокойной уверенности позы видно было, что он уже успел принять свойственную казакам и вообще людям, постоянно носящим оружие, воинственную и несколько гордую осанку <…> Одежа его была небогатая, но она сидела на нем с тою особою казацкою щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам (т. VI, с. 23–24).
Чехов по условиям жанра и требованию «конспективности» рассказа отказывается не только от характеристики казака, но даже и от описания его внешности. Для этого выбрана определенная поза героя – казак сидел, «согнувшись, глядел себе в ноги» (т. 6, с. 164). Позже появится ремарка – «ответил казак, не поднимая головы» (т. 6, с. 165), тем самым мотивирован отказ от его портретной характеристики. Когда разговор продолжился, то казак вынужденно «поднял голову и обвел утомленными больными глазами Максима, его жену, лошадь» (т. 6, с. 165). Портрет заглавного героя, таким образом, складывается из трех деталей: позы, рыжего цвета волос и утомленных больных глаз. Все они связаны с сознанием и точкой зрения другого персонажа. В отличие от Толстого, Чехов отказывается от избытка авторского видения. Через три года в письме Суворину им будет сформулировано правило изображения героев, согласно которому автор «всё время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе» (П, т. 4, с. 54). Первые опыты такой дискурсивной практики получили реализацию в рассказах 1886–1887 гг., в том числе и в «Казаке».
Перелом в сознании чеховского героя происходит сам по себе. Случайная короткая встреча с казаком и мимолетный разговор с ним оказались судьбоносными для Максима, изменили его мировосприятие:
Неизвестно отчего, им овладела скука , и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было. <…> Торчаков выпил полстакана чаю и уж больше ничего не пил и не ел. Есть ему не хотелось, чай казался невкусным, как трава, и опять стало скучно . <…> Вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно , как никогда не было, – хоть в петлю полезай! От скуки и с досады на жену он напился, как напивался в прежнее время, когда был неженатым (т. 6, с. 166, 168).
Обратим внимание на завершающее фрагмент придаточное предложение: герой как бы отбрасывается в свое «прежнее время», когда он не имел ясных ценностных ориентиров и был в поиске их. Со времени женитьбы они были связаны с материальным преуспеванием. Казак, сам того не ведая, разрушил иллюзорные представления героя о примате материального, а не духовного, что вполне в духе литературной дидактики и житейской практики Толстого.
Скука – экзистенциальный концепт в произведениях Чехова, тогда как герои Толстого редко испытывают его, тем более казаки. Движение фабулы в чеховском рассказе связано с динамикой внутреннего состояния Максима Торчакова: от внезапного, необъяснимого возникновения смуты в душе, ее нарастания и до попытки избавиться от нее с помощью алкоголя. Если незаурядные личности в романах Толстого проходят испытание «диалектикой души», то «бердянский мещанин», гораздо более ординарный человек, испытывает простой переход от одного состояния к другому, к нестерпимой скуке, т. е. к неспособности изменить сложившее положение вещей.
Толстовская концепция развития личности, представляемая как процесс нравственных исканий, как преодоление противоречий на пути к истине, заменяется у Чехова только указанием на слом привычного уклада без возможности возвыситься до нового представления о жизни:
С этого и началось расстройство .
Лошади, коровы, овцы и ульи мало-помалу, друг за дружкой стали исчезать со двора, долги росли, жена становилась постылой... Все эти напасти, как говорил Максим, произошли оттого, что у него злая, глупая жена, что бог прогневался на него и на жену... за больного казака . Он всё чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак... (т. 6, с. 168).
Так заканчивается рассказ. Остановимся на первой фразе из приведенного фрагмента, вынесенной в отдельный абзац. Главная особенность ее – смысловая неполнота. Оставив слово «расстройство» без требуемого дополнения, Чехов тем самым акцентирует возможность разного продолжения фразы. Следующий далее текст подсказывает, что «началось расстройство» хозяйства Максима Торчакова. Но не менее важен и другой смысл – утрата героем душевного равновесия, уверенности в правильности жизненного пути.
Уже после «Казака» Чехов работал над рассказом «Расстройство компенсации», который остался незавершенным. Один из героев его испытывает чувства, сходные с теми, что овладели Торчаковым. Безличный повествователь в «Расстройстве компенсации» передает состояние человека, который хочет ясности в жизни: «…ничего нельзя было понять, а время шло, неопределенность наскучила» (т. 10, с. 223). Драматизм ситуаций в обоих случаях проявляется в том, что герои остаются в состоянии «неопределенности», не находя выхода из нее. Герой из «Расстройства компенсации» интуитивно догадывается, что сложившийся уклад жизни настолько прочен, что «из этой твердой скорлупы ему не выйти уже до самой смерти» (т. 10, с. 229). Максиму Торчакову автор не дает возможности приблизиться даже к такому выводу.
Чехов трансформирует толстовскую идею духовного развития человека через приобщение его к жизни простого народа, а затем и к познанию Бога. Автор «Казака» ставит под сомнение толстовское убеждение, что вера в Бога у простого народа глубже и тверже, чем у других социумов. «Мужицкий бог» в трактовке Чехова в данном случае достаточно условен и сводится к идее наказания за грехи. Максим недаром говорит:
Я всё думаю: а что ежели это бог нас испытать хотел и ангела или святого какого в виде казака нам навстречу послал ? Ведь бывает это. Нехорошо, Лизавета, обидели мы человека! (т. 6, с. 167).
Именно этот аспект рассказа мог вызвать критику Толстого, прочитай он его во втором томе собрания сочинений Чехова.
Обычный человек, воспринимаемый другим как посланник Бога, получит у Чехова продолжение в упомянутой повести «В овраге»:
– Вы святые? – спросила Липа у старика.
– Нет. Мы из Фирсанова (т. 10, с. 174).
Сходство Липы и Максима в их убеждении, что ангелы или святые могут принимать облик простых людей для проверки крепости веры человека. Муки Торчакова связаны с осознанием того, что он не выдержал проверки. Если Толстой прямо выражает необходимость для человека веры в Бога, то Чехов прибегает в последних словах рассказа фактически к эвфемистическому замещению ее. Желание героя еще раз встретить в степи казака равнозначно его попытке вторичного испытания судьбы и желания исправить ее. «Промежуточность» позиции Чехова по вопросу веры хорошо выразил в свое время А. Измайлов: «Температура веры, если можно так выразиться, не была в Чехове настолько высока, чтобы религиозность его прорывалась помимо его воли, обвевала зноем приближавшихся к нему. Но он не был и индифферентом веры, ни того менее, верующим “на всякий случай”» [Измайлов, 2002, с. 901]. Вопрос богоискательства, один из ключевых в духовной практике Толстого, Чехов будет актуализировать и в других произведениях, например в «Убийстве» [Кубасов, 1998, с. 334–356], и связывать его с именами Достоевского и Толстого.
Итоговое отношение Чехова к Толстому зафиксировано в его письме к М. О. Меньшикову: «Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех» (П, т. 9, с. 29–30). Вера Толстого стала «близкой и подходящей» для Чехова лишь с течением времени, и рассказ «Казак» знаменует один из этапов его приближения к миропониманию автора «Казаков», но все-таки не слияния с ним, не полного принятия его.
Быть может, одним из главных уроков, которые мог вынести Чехов из опыта прочтения им повести Толстого, заключался в типе завершения произведений. Открытые финалы будут признаваться литературной новацией Чехова: «Открытость чеховских финалов обнаруживалась преимущественно в зрелых произведениях писателя. Между тем и в ранних рассказах Чехова действие не оканчивается развязкой фабульного эпизода» [Левитан, Цилевич, 1990, с. 312]. Одним из первопроходцев в разработке открытых финалов был Толстой и его «великий и короткий роман». Родство типов завершения отметил В. Б. Шкловский. Он пишет о «Казаках»: «Вещь как будто не была окончена. Но это был настоящий конец. Новый конец. Концы толстовской прозы, как концы прозы Чехова, они не были условны» [Шкловский, 1981, с. 47].
Обратимся к дидактическому рассказу Толстого «Чем люди живы», который признается прецедентным текстом для рассказа Чехова. Создание рассказа Толстым относят к 1881 г., тогда же он был напечатан в журнале «Детский отдых», в 1886 г. он вышел отдельной книжкой в издательстве «Посредник» и в собрании сочинений писателя (т. XXV, с. 667, 674). Следовательно, произведение входило в актуальный литературный контекст для «Казака» и вполне могло стать предметом обсуждения или упоминания в том дорожном разговоре, о котором писал Чехов родным. Толстой строит рассказ как иллюстрацию и художественное развертывание восьми библейских цитат, послуживших эпиграфом к нему. Некоторые из них вполне соотносятся и с чеховским «Казаком»:
А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое: как пребывает в том любовь Божия? (т. XXV, с. 7).
Сюжетно рассказы Толстого и Чехова сходны, отчасти это обусловлено тем, что в обоих случаях разрабатываются так называемые «бродячие сюжеты» (т. XXV, с. 665). Бедный сапожник Семен, герой Толстого, как и Максим Торчаков, встречает по дороге домой «человека в беде». Сапожник говорит себе:
Человек в беде помирает, а ты заробел, мимо идешь. Али дюже разбогател? боишься, ограбят богатст во твое? Ай, Сема, неладно! (т. XXV, с. 9).
Герой снимает с себя бедную одежду, чтобы покрыть нагого человека. Жена Матрена журит мужа за «голого бродягу». Однако уже вскоре вслед за мужем идет на помощь страннику:
Как вспомнит, что он последнюю краюшку доел и на завтра нет хлеба, как вспомнит, что рубаху и портки отдала, так скучно ей станет; а вспомнит, как он улыбнулся, и взыграет в ней сердце (т. XXV, с. 14).
Приведенный фрагмент позволяет увидеть различие писателей в понимании скуки. У Толстого она синонимична жадности, скупости.
Важное сходство сюжета рассказа Толстого с сюжетом рассказа Чехова в том, что встреченный Семеном голый человек оказывается ангелом, принявшим человеческий облик. Ангел нужен Толстому для прямого дидактического вывода:
И обнажилось тело ангела, и оделся он весь светом, так что глазу нельзя смотреть на него; и заговорил он громче, как будто не из него, а с неба шел его голос. И сказал ангел: «Узнал я, что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью» (т. XXV, с. 24).
У Толстого эксплицировано то, что Чехов дает как потенцию, возможность.
В 1900 г. в письме М. О. Меньшикову Чехов отметил то, что он не принял в романе «Воскресение» и что, видимо, не принималось им у Толстого и раньше. «Конца у повести нет, а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить всё на текст из евангелия, – это уж очень по-богословски» (П, т. 9, с. 30). Внутренняя соотнесенность «Казака» Чехова с повестью Толстого, открытый дидактизм рассказа «Чем люди живы» и «температура веры» ее автора в совокупности могли спровоцировать полемику Толстого с Чеховым. Предчувствуя эту возможность, Чехов отказался от включения рассказа в собрание своих сочинений.
Таким образом, даже в «чересчур толстовистом» рассказе Чехов все-таки не был прямым продолжателем манеры старшего современника, а тем более его подражателем. Освоение литературного опыта Толстого сочеталось у Чехова с полемикой с ним в художественной форме. Денотативный аспект чеховского рассказа (казачество как особая социальная группа) опирался на дистантную пресуппозицию, которая должна была обратить читателя к прецедентной повести Толстого. Другим средством организации и восприятия чеховского текста послужил рассказ «Чем люди живы», переизданный незадолго до работы Чехова над «Казаком» и обусловивший пресуппозицию контактную. Нравоучительное произведение Толстого оказалось важно в сюжетно-фабульном и проблемно-тематическом отношениях. Обращение к архетипической ситуации «встреча в дороге» позволило Чехову вписать его произведение в общекультурную парадигму и одновременно оспорить открытый дидактизм рассказа Толстого.