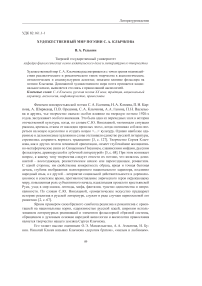Художественный мир поэзии С. А. Клычкова
Автор: Редькин Валерий Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Художественный мир С. А. Клычкова рассматривается с точки зрения взаимодействия реалистического и романтического типов творчества в аксиологическом, онтологическом и социокультурном аспектах; показано влияние фольклора на поэзию Клычкова. Доминантой художественного мира поэта признается национальное начало, выявляется его связь с православной аксиологией.
С. а клычков, русская поэзия xx века, традиция, национальный характер, аксиология, мифотворчество, православие
Короткий адрес: https://sciup.org/146281502
IDR: 146281502 | УДК: 82.161.1-1
Текст научной статьи Художественный мир поэзии С. А. Клычкова
Феномен новокрестьянской поэзии С. А. Есенина, Н. А. Клюева, П. И. Карпова, А. Ширяевца, П. В. Орешина , С. А. Клычкова, А. А. Ганина, П. Н. Васильева и других, чье творчество оказало особое влияние на тверскую поэзию 1920-х годов, заслуживает особого внимания. Это была одна из переходных эпох в истории отечественной культуры, когда, по словам С. Ю. Николаевой, «возникали ситуации раскола, кризиса, отказа от наследия прошлых эпох», когда «возникал соблазн опереться на новую идеологию и создать новую <…> культуру. Однако наиболее одаренные и дальновидные художники слова отстаивали единство русской литературы, стремились сохранить верность традициям» [3, с. 127]. Творчество Сергея Клычкова, как и других поэтов почвенной ориентации, «имеет глубочайшие ассоциативно-метафорические связи со Священным Писанием, славянскими мифами, русским фольклором, древнерусской и лубочной литературой» [5, с. 68]. При этом возникает вопрос, к какому типу творчества следует отнести их поэзию, что являлось доминантой – воссоздающее, реалистическое начало или пересоздающее, романтизм. С одной стороны, им свойственна конкретность образа, яркая и точная бытовая деталь, глубина изображения полнокровного национального характера, подлинно народный язык, а с другой – неприятие социальной действительности в дореволюционное и советское время, противопоставление лирического героя окружающему миру, повышенная роль субъективного начала, идеализация прошлого крестьянской Руси, уход в мир сказки, легенды, мифа, фантазии, чувство одиночества и неприкаянности. По словам С. Ю. Николаевой, «романтическое искусство предваряет историю реализма в русской литературе, служит в ряде случаев первоосновой его развития» [2, с. 67].
Ярким примером своеобразного симбиоза реализма и романтизма с ориентацией на национальные корни, одержимостью русской идеей, широким использованием литературных реанимаций и элементов фольклорной образной системы, обращением к духовным основам народной аксиологии и аксиологии православия является творчество нашего земляка Сергея Клычкова.
Его талант высоко оценивали О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, И. Бунин. Николай Клюев называл Клычкова «дорогим братом», «милым и любимым».
Сергей Есенин посвятил ему знаменитое стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…», а Павел Васильев запечатлел его образ в своих стихах.
Как и другие крестьянские поэты, Клычков готов был поддержать революционные преобразования в интересах народа, но он не вписался в революционную эпоху насилия, политического диктата, раскрестьянивания и богоборчества. Бескиными, авербахами и другими ультралевыми рапповскими и напостовскими критиками, по сути, троцкистского толка он был заклеймен как реакционер, консерватор, и трагическая участь его, как и других новокрестьянских поэтов, была предрешена.
Сергей Антонович Клычков родился, по одной версии, 6 июля, по другой – 12 или 13 июля (по новому стилю) 1889 года в деревне Дубровки Каля-зинского уезда Тверской губернии (ныне Талдомского района Московской области) в старообрядческой семье кустаря-башмачника. Мать тоже занималась башмачным делом, заготовкой и продажей. Патриархальная крестьянская семья была многодетной, но из тринадцати детей вырастить удалось только пятерых. Отец Антон Никитич был настоящим хозяином, работящим и предприимчивым. Именно такие люди были фундаментом российской государственности. Он получил от общины тридцать пять соток земли у болота, построил большой дом из кирпича, украсил его внутри арками и изразцовой печью, посадил фруктовый сад, завел крепкое хозяйство с овцами, поросятами, коровами, лошадьми, курами, организовал башмачную артель из тридцати рабочих.
Истоки своего творческого воображения и подлинно народного образного языка поэт связывал с одаренностью родителей, бабки Авдотьи, носительницы народных поверий и легенд, а также с крестьянским бытом и окружающей природой. Символично, что Клычков родился в лесу, в малиннике. С детства он ощущал органичную связь с природным миром. По воспоминаниям современников, его понимали животные, не кусали пчелы, тайные природные силы приходили ему на помощь в трудных случаях. В соответствии с этим поэт мифологизирует образ лирического героя: «В очах – далекие края, / В руках моих – березка, / Садятся птицы на меня, / И зверь мне брат и тёзка…» [1, с. 70]. Дикий лесной мир – одно из самых дорогих воспоминаний детства: «Помню, помню лес дремучий. / Под босой ногою мхи, / У крыльца ручей гремучий / В ветках дремлющей ольхи» [Там же, с. 62].
Образы природы средней полосы России с её флорой и фауной органично включаются в поэтический мир С. Клычкова. Берёза и ольха, ель и сосна, синица и грач, журавль и дятел «красногрудый», медведь «с хребтом багровым» и заяц, лось и бурундук символизируют национальное пространство. Образы природы проникновенны и поэтичны, она одухотворяется с помощью олицетворений и персонификации: «А роса в лесу – как слезы / На серебряных ресницах» » [Там же, с. 63].
Особой выразительностью отличалась и внешность Клычкова, которая соответствовала образу романтического героя, – стройный, высокий, с выразительными чертами лица и магнетическим взглядом, он производил неотразимое впечатление на женщин. А. Ахматова говорила о нем как о человеке «ослепительной красоты». Явно влюблена была в молодого Клычкова Марина Цветаева, и только случай помешал развитию их личных отношений.
После талдомской земской школы Клычков поступает в московское реальное училище И. И. Фидлера, где учится до 1906 года. Как увлечение романтикой революции следует воспринимать участие Клычкова в московском восстании 1905 года в составе боевой дружины, действовавшей на Арбате под руководством Сергея Коненкова.
Стихи Клычков начал писать еще в детстве. Уже в то время он пересоздает реальный мир в соответствии с народными поверьями, где лешие и домовые воспринимаются как неотъемлемая часть окружающего мира. Не случайно на уроке естественной истории во время объяснения учителем классификации животных он спросил, к какому классу животных относится леший. Революционно-романтический характер носят первые публикации поэта в журнале Московского университета «На распутье» стихотворений «Мужик поднялся», «Гимн свободе» и др.
В 1907 году Клычков публикуется в альманахах «Сполохи», «Белый камень», «Вестник общества “Самообразование”». В 1908 г. при финансовой поддержке М. И. Чайковского (брата композитора), которого тронула романтическая история неразделенной любви поэта к Евгении Лобовой, красавице-гимназистке, Клычков посещает Италию, где на Капри знакомится с М. Горьким и А. Луначарским. Осенью того же года Клычков поступает на историко-филологический факультет Московского университета, но из-за материальных трудностей получить систематическое образование ему так и не удалось. В это время поэт расширяет круг общения в творческой среде. У него складываются теплые отношения с Сергеем Соловьевым, он посещает кружок Эллиса. В 1911 году при содействии Модеста Чайковского Сергей Клычков издает свой первый поэтический сборник «Песни» в символистском издательстве «Альциона». В 1913 году вышел второй сборник, «Потаенный сад».
Дореволюционная лирика Сергея Клычкова воспринималась современниками как явление символизма. По словам исследователя, «его “душой опустошенный” лирический герой горел отраженным светом; его Лада напоминала образы поэзии символистов, воплотившие соловьевскую идею Вечной Женственности, она была внематериальна и космична; поэтическое слово наполнено иным, тайным смыслом» [6, с. 22].
В основе образа Клычкова лежало не символистское, а традиционно-мифологическое начало, воспринятое из неисчерпаемых источников национальной культуры. Для него характерна опоэтизированная, но все же бытовая деталь: «На певучем коромысле / Не носить с ручья воды…» [1, с. 60].
Черты романтизма стихам Клычкова этого времени придают некоторые элементы его мировосприятия. Его лирический герой испытывает чувство одиночества: «Я одинок как прежде / С надеждою земною…» [Там же, с. 61]. «Я один как в сказке рос» [Там же, с. 63]. Чаще всего это тихий грустный инок, который ходит «подпираясь подожком» [Там же, с. 64], или Лель, который таит и лелеет свою печаль, пасет стада овец «в тумане раннем у реки», играет на гуслях и рожке, трубит в коровий рог («Не услышать другу гуслей…» [Там же, с. 60], «Заиграю ль в гусли под окном у ивы…» [Там же, с. 66]). Образы поэта, певца и пастуха сопрягаются: «И я пастух, и я певец / И все гляжу из-под руки: / И песни – как стада овец / В тумане раннем у реки…» [Там же, с. 59].
Возникают яркие мифические и сказочные образы мудрого старца, который кладет поклоны, оберегая крестьянский мир: «По лесным полянам / В круг родной деревни / За густым туманом / Ходит старец древний» [Там же, с. 62], «В золотых лучах полумесяца / Старец проходит чащами», «Вышел в поле старец с кошелками, / Светлый, верно, от инея» [Там же, с. 65], «Гуляет перед бором / Чудный странничек в кустах» [Там же, с. 73]. Это дед, который весною тихо приходит откуда-то из пустыни и, опираясь на посошок, разбрасывает семена: «Вышел дед из-за лесов: / Отряхнул с седых усов / На прорвавшийся ручей / Стаю первую грачей…» [Там же, с. 84]. Это сказочные «седые богатыри», леший, бесы, русалки, языческая богиня Лада, которая повелевает силами природы, колдун, царевна-королевна, королевич Бова, Купава: «Встал в овраге леший старый, / Оживают кочки, пни… / Вон с очей его огни / Сыплются по яру» [Там же, с. 69], «Задремал в осоке леший – / старичок преклонный» [Там же, с. 73], «По селу идет колдун в онучах, / в онучах – в серых тучах» [Там же, с. 69], «Выезжает на коне / Из грозовых туч Бова» [Там же, с. 76], «Вышла Лада на крылечко, / Уронила перстенек» [Там же, с. 84] и т. д. Сказочность буквально пронизывает образную систему поэта: «Прыгают зайчики босеньки, / Бьют в барабанчики лапками» [Там же, с. 65]. Характерны названия его ранних стихов: «Леший», «Купава», «Жар-птица», «Горбунок» и т. д.
Поэт уходит от низкой, грубой и убогой действительности в мир сказок, легенд и поверий. При этом в поэзии Клычкова заключалась подлинно народная, фольклорная стихия, которая выходила далеко за пределы эстетики символизма. Это проявилось прежде всего в том, что он относился к миру с его многообразием, красотой и гармонией как к Божьему чуду. Отсюда медитативность его лирики, молитвенное состояние лирического и ролевого героя: «Бога строгого в печали / О несбыточном молил» [Там же, с. 63], «Помолюсь святой иконе / На соломе чердака» [Там же, с. 63]. Дед косарь «молится на восток» [Там же, с. 95], поселяне «В громкой песне и молитве / Будут славить дедов плуг», зима «скоро Богу помоляся, собиралась восвояси» [Там же, с. 85] и т. д.
Пантеистическое восприятие природы у него сочеталось с православным мироощущением, простота языка с фольклорной символикой, песенная организация стиха с разнообразием ритмики, метрики и архитектоники строфы. Поэт широко использует постоянные эпитеты: каленый меч, сине море, белая рука, сырая земля, черный ворон, алая лента, платок шелковый, темный лес, чисто поле и т. д.; лексику народной песни: колечко, жемчуга, янтари . И тут же возникают образы, связанные с религиозной христианской традицией: Пречистый Спас, церковь как храм Господень, звон колоколов, церковный пруд, иконы: «И висит иконой / Месяц над полями», «У горних, у горних селений / Стоят голубые сады».
Цветущий сад символизирует счастливую радостную жизнь, любовь, рай, увядший – несчастье, печаль, горе, неразделенную любовь, а может быть, и смерть: «Кто на свете счастлив? Счастлив, верно, я. / В темный сад выходит горница моя!» [Там же, с. 66], «Пойте, птахи, около сада потаенного» [Там же, с. 68], «…Пели в тихом саде / Парень с молодицей» [Там же], «Печаль, печаль в моём саду» [Там же, с. 63].
В детстве поэт был подвержен лунатизму, и ощущение связи лирического героя с космосом буквально пронизывает его стихи. В произведениях С. Клычкова незримо присутствует космический масштаб бытия. Размышляя о художественном космизме Н. Тряпкина и Ю. Кузнецова, С.Ю. Николаева констатирует: «Высшая цель эволюции – полное преображение человека, у религиозных космистов это достижение Царства Божьего» [4, с. 71]. Эту характеристику можно с полным правом отнести и к Сергею Клычкову.
За всем, что происходит в земной жизни, как бы наблюдают звезды: «Звезды клонятся в тумане…» [1, с. 96], «Звезды падают мельком» [Там же, с. 97]. Свидетели всего происходящего – луна или месяц: «Месяц клонится щербатый / В васильки сырой межи…» [Там же, с. 97], «Низок месяц круторогий» [Там же, с. 100], «Ходит месяц, за собою / Водит облака гурьбой» [Там же, с. 101], «Месяц острыми рогами / Звезды по небу катит» [Там же, с. 104]., «Взойдет луна и словно что-то ищет / И цедит сверху золото и синь» [Там же, с. 163]. Радует сердца сельчан солнце: «И играет солнце в груде / Обмолоченных снопов» [Там же, с. 98], «В тишине уходит солнце / По крутому бугорку» [Там же, с. 103]. Небесные силы участвуют в трудовой деятельности крестьянина, в быту, в личной жизни: «Луг в туманы нарядился, / В небе месяц народился / И серпом лег у межи, – / Над серпом горят зарницы, / Зорят жито и пшеницу, / Бьются крыльями во ржи!» [Там же, с. 96].
А это крестьянская изба: «Дремлет месяц на оконце, / Под князьком сияет солнце, / Облака вися, как пух, / Звезды с матицы пылают, / А по терему гуляет / Золотой певун – петух» [Там же, с. 106]. Небо живет той же жизнью, что и трудовая жизнь мужика, космические образы в метафоре сопрягаются с земными: «Воз тяжелых облаков / Стянут молнией с боков» [Там же, с. 102], «Вихрем конь летит, коль съест / Меру зерен – зорных звезд» [Там же, с. 103]. В одном развернутом поэтическом образе подчас сопрягаются все космические стихии. Месяц представляется одетым в кафтан с серебряной каймой: « – А кафтан кроили ветры / Из высоких облаков, / Шили молнии на туче / Золоченою иглой» [Там же, с. 105]. В основе космизма Клычкова лежат традиционное народное представление о единстве человека и природы и народное христианство с восприятием Божьего мира как единого целого. Вот почему Клычков часто переносит церковный обряд из храма в лес, в поле, в травный мир. Поклоняясь природе, он поклоняется её творцу: «Но вставши утром спозаранья, / Так хорошо склониться ниц / Пред ликом вечного сиянья, / Пред хором бессловесных птиц» [Там же, с. 178]. Все это отличало его лирику от поэзии символистов, ее тончайшего психологизма, рафинированности, ярко выраженной философичности.
С точки зрения Клычкова, образ в поэзии должен рождаться естественно. Поэтический текст наполняется образами, как космос звездами. Их не надо изобретать или конструировать. Они существуют изначально, как звезды, которые надо открывать. Это не исключало мифологичности и символичности в его стихах, сочетания фантастики и реальности. Вот почему Сергей Клычков, отстаивая свою эстетическую позицию в статье «Лысая гора», резко критиковал Пастернака и имажинистов, Асеева, Хлебникова и Маяковского. Он воспринимал формальные изыски как шабаш на Лысой горе. Своё творческое кредо поэт выразил в стихотворении «Должно быть, я калека…»: «Я с даром ясной речи, / И чту я наш язык, / А не блеюн овечий / И не коровий мык!» [Там же, с. 211].
Для него важны искренность и сердечность поэтического слова, когда «легко ложится в строку раскрытая душа» [Там же, с. 215]. Он стремится «перелить в тугую строку страх и боль» своей души [Там же, с. 219].
Главным героем, «человеком вселенной» для Клычкова был крестьянин. Ему посвящено все его творчество. По словам критика, «крестьянин в поэзии и прозе Клычкова – Божий избранник» [6, с. 24]. Он его опоэтизировал, но он его и упрекал в том, что тот допустил гибель исконной Руси. Именно с этим связаны особенности неоромантизма в поэзии Сергея Клычкова.
Свою творческую родословную Клычков вел от «речистой матки», мудрого в своем косноязычии отца, от бабушки Авдотьи и Чертухинского леса, что сближало его творчество с неоромантизмом новокрестьянских поэтов. Он прошел тот же путь, что и Николай Клюев, Сергей Есенин, Пимен Карпов, Александр Ширяевец,
Алексей Ганин, Петр Орешин, Павел Радимов, Павел Васильев, от идеализации прошлого и прославления крестьянского рая к идеям светлого будущего, которое он видел в христианском социализме, к полному неприятию революции, в основе которой лежали идеи братоубийства и богоборчества. Он не мог принять политику большевиков в отношении крестьянства, да и России в целом.
На мировоззрение Клычкова значительное влияние оказала вера старообрядцев. На каком-то этапе революционная борьба с самодержавием совпадала с чаяниями староверов, которые были, по сути, изгоями общества. В результате революции 1905 года была провозглашена свобода вероисповедания, и староверы были уравнены в правах со всеми гражданами страны. Сближали старообрядцев и революционеров идея непокорности власти, пламенные заветы Аввакума о духовном сопротивлении официальным доктринам. Родители Клюева помнили и чтили не только Аввакума, но и скопца Кондратия Селиванова. В то же время они были людьми воцерковленными. Яростная атеистическая пропаганда послереволюционного времени не могла не вызвать отторжения у поэта, а старообрядческие корни не позволили ему молчать и приспосабливаться к новой власти. Его романтические идеалы прямо противоположны революционному романтизму 20-х годов.
-
С. Клычков не принимает сердцем плоды цивилизации, разрушающей гармоничный мир природы. С его точки зрения, «таёжную сторонку сковали рельсы, точно кандалы», а «от искр из паровозной топки с конца в конец прошел большой пожар» [1 с. 162].
Теперь столбы шагают из болота, Неся в руках стальные провода. И в ноги им спадает позолота, Плывет с реки осенняя слюда… …Совсем в сторонке лес стоит, как нищий, Гнусаво тянет про себя аминь! [Там же, с. 163].
В его поэзии появляются эсхатологические мотивы. В стихотворении «Луна» поэт прямо пишет о приближающемся конце света: «Из жизни в смерть земля-старуха / Несет свой заревой венец», «И впереди не будет праху, / А позади лишь прах и пыль» [Там же, с. 167]. «И хляби ринулись из тверди, / И мир взметнулся на дыбы… / Удержатся ль на крыше жерди / Старухи-матери избы?» – продолжает эту мысль он в стихотворении «Я не видал давно Дубравны…» [Там же, с. 241]. Лирический герой теряет ориентиры: «Кто враг? Где друг? В чем жизнь и что судьба?» [Там же, с. 173], «Слова жестоки, мысли зыбки, / И призрачны узоры снов» [Там же, с. 182]. В новом мире «нет ни крыл заоблачных, ни звезд», луна становится «лукавой» [Там же], а то и вообще «лежит покойницей» [Там же, с. 185]. Возникают мотивы безумия и одиночества: «Безумный год сороковой / Встречаешь одинокий» [Там же, с. 179].
Под влиянием впечатлений от новой, послереволюционной действительности, безбожной и бездуховной в своей основе, у Клычкова возникает образ бесов, которые властвуют в мире, и вновь мысль о сопротивлении:
Не мечтай о светлом чуде:
Воскресения не будет!
Ночь пришла, погаснул свет…
Только в поле из-за леса За белесой серой мглой То ли люди, то ли бесы На земле и над землей…
Разве ты не слышишь воя: Слава Богу, что нас двое! В этот темный, страшный час, Слава Богу: двое нас!
Слава Богу, слава Богу, Двое, двое нас с тобой. Я – с дубиной у порога, Ты – с лампадой голубой! [Там же, с. 248].
Ставя себя в один ряд со строителями нового мира, поэт заявляет: «Пускай земные брони-горы / Мы плавим в огненной печи – / Но миру мы куём запоры, / А нам нужны ключи!» [Там же, с. 218] – и вновь повторяет мысль о безбожии эпохи: «Наш путь – железная дорога, / И нет ни троп уж, ни дорог, / Где человек бы встретил Бога / И человека – Бог» [Там же, с. 218]. Клычков противопоставлял мечту о сытом рае социализма, в которой разуверился, реальному благосостоянию, созданному своим трудом, потом и кровью русского мужика-хозяина: «Пироги, опреснухи да пышки! / Подставляй, поворачивай рот! / Нет, не годен к такой шаромыжке, / Непривычен наш русский народ!» [Там же, с. 218].
Конечно, он понимал всю опасность такой общественной и творческой позиции. «Брови черной тучи хмуря, / Ветер бьет, как плеть… / Где же тут в такую бурю / Уцелеть», – признавался он с горечью и тревогой. И тут же подчеркивал, что помогает ему выстоять вера [Там же, с. 216]. В его поэзии все чаще появляется тема смерти, ухода, прощания («Уставши от дневных хлопот…», «Я устал от хулы и коварства…», «Мне не уйти из круга…», цикл «Заклятие смерти»). Ему до слез жалко уходящую в прошлое традиционную крестьянскую Русь. В стихотворении «Монастырскими крестами ярко золотеет даль…» тема родного края сплетается с темой погоста, в оклике журавлином слышится предупреждение: «Берегись», – а «заря крылом разбитым, / Осыпая перья вниз, / Бьётся по могильным плитам, / Да по крышам изб». У лирического героя остается только одна надежда – на помощь высших сил: «И разбитою рукою / Я крещусь, крещусь» [Там же, с. 164]. Сергей Клычков не принимает реальную действительность и, в духе романтизма, либо её пересоздает, либо от неё отказывается.
Список литературы Художественный мир поэзии С. А. Клычкова
- Клычков С. А. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 1. М.: Эллис Лак, 2000. 542 с.
- Николаева С. Ю. Балладное и притчевое начала в рассказе А. П. Чехова «Ведьма» // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 4. С. 67-74.
- Николаева С. Ю. Концепт «степь» в коммуникативном пространстве поэзии П. Н. Васильева // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2011. № 1. С. 127-138.
- Николаева С. Ю. Художественная философия Н. И. Тряпкина и Ю. П. Кузнецова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2010. № 5. С. 71-81.
- Редькин В. А., Николаева С. Ю. Традиции А. А. Блока в поэзии Ю. П. Кузнецова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 1. С. 68-77.
- Солнцева Н. Сорочье царство Сергея Клычкова // Клычков С. А. Собр. соч.: в 2 т. Т. 1. М.: Эллис Лак, 2000. С. 1-24.