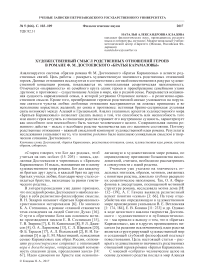Художественный смысл родственных отношений героев в романе Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы"
Автор: Кладова Наталья Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (166), 2017 года.
Бесплатный доступ
Анализируется система образов романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» в аспекте родственных связей. Цель работы - раскрыть художественную значимость родственных отношений героев. Данные отношения исследуются в соответствии с логикой повествования в ракурсе художественной концепции романа, показывается их многоплановая семантическая наполненность. Отмечается «вырванность» из семейного круга одних героев и пренебрежение семейными узами другими; в противовес - существование Алеши в мире, как в родной семье. Раскрывается искаженная сущность карамазовской семьи, в которой устранено Отцовское начало - в религиозно-нравственном смысле. Кроме того, пренебрежение героями родственной связью умножается на поругание святости чувства любви: любовные отношения выстраиваются на ложных принципах и во исполнение корыстных желаний; но снова в противовес: истинная братне-сестринская духовная связь возникнет между Алешей и Грушенькой. Анализ указанных аспектов художественного мира «Братьев Карамазовых» позволяет сделать вывод о том, что способность или неспособность того или иного героя вступать в отношения родства отражает его внутреннюю сущность, характеризует как способного или неспособного быть частью человеческого целого. Содержательная основа романного действа - мысль о всеобщем родстве человечества как его исконном состоянии. Поэтому родственные отношения - важный смысловой компонент художественной идеи романа. Результаты исследования указывают на то, что понятие родство было наполнено уникальным смыслом в творческом сознании Достоевского.
Достоевский, "братья карамазовы", родственные отношения, семья, художественная идея, роман, система образов, соборность
Короткий адрес: https://sciup.org/14751205
IDR: 14751205 | УДК: 82.31
Текст научной статьи Художественный смысл родственных отношений героев в романе Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы"
«Старец говорит, что Бог дал родных, чтоб учиться на них любви » (15: 205) – запись, сделанная Достоевским в черновиках к «Братьям Карамазовым». И мысль, положенная им в основу художественного мира романа. Бог дал каждому из братьев друг друга, и каждый брат на других братьях учился любви, благодаря чему стало созидаться братство, выходящее за рамки генетического родства…
В литературоведении уже давно признано, что последний роман Достоевского наиболее вобрал в себя религиозно-философские смыслы. В. Н. Захаров называет «Братьев Карамазовых» христианским метароманом [6]. По мнению К. А. Степаняна, в романе «главной становится тема схождения на людей Святого Духа» [16]. О пути к обретению Бога как основном мотиве произведения писали Е. В. Сосницкая [15], Т. В. Зверева [7], К. В. Каминская [8], Р. Л. Джексон [4], О. А. Ларионова [13], С. Л. Шараков [20], Ф. Б. Тарасов [17], А. Л. Волынский [2], И. И. Евлампиев [5] и др. Е. М. Мелетинский, осмысливая семью Карамазовых как образ России, оппозицию русское/нерусское сопрягает с оппозицией вера в Бога/безверие , «определяющей возможность спасения души, преодоления хаоса» [14: 67]. Идею единения во Христе как основопо-
лагающую в художественном мире романа, по справедливому признанию большинства исследователей, считаем, необходимо рассматривать в совокупности с идеей родства.
Учеными уже указано на значимость отдельных эпизодов, образов, мотивов, связанных с понятием родства, довольно глубоко раскрыто их семантическое наполнение. Так, О. А. Фара-фонова в диссертации, посвященной мотивной структуре романа, исследовала мотив дома [18: 132–139], А. Г. Гачева выявила религиозный аспект понятия «семья» [3: 66]. На тему отцеубийства как определяющую в художественном мире произведения указывали В. Е. Ветловская [1: 174, 184], Е. В. Ковина [11: 233] и др. Однако в ходе целостного анализа творчества Достоевского – художественного и публицистического – мы пришли к выводу о том, что в «Братьях Карамазовых», как и в других произведениях писателя (за редкими исключениями), идея родства является структурирующей художественный мир и создающей глубокий философский подтекст повествования. Цель настоящей статьи – раскрыть художественную значимость родственных отношений героев романа «Братья Карамазовы».
С миссией «собрать» человеческое целое на основе духовного родства послал в мир Алексея
Карамазова старец Зосима, который еще стоял «единицей». Но ученика это не смущало: «Все равно, он свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит наконец правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга» (14: 29)… В подготовительных материалах к роману читаем: «Семейство расширяется, вступают и неродные, заткалось начало нового организма» (15: 249). В финале произведения автор оставляет открытым вопрос о том, состоятся ли малые семьи, за которые на протяжении всего повествования идет такая ожесточенная, нечеловеческая борьба (Грушенька + Митя, Катерина Ивановна + Иван, Лиза Хохлакова + Алеша), ибо зарождается семья всечеловеческая, евангельская – у Илюшечкина камня… духовной силой Алеши. Это – самый дорогой Достоевскому образ будущего духовно единого человечества. Художественный же мир романа до финального эпизода – мир, в котором преданы поруганию родственные связи.
Большинство героев в «Братьях Карамазовых» находятся в отношениях родства. Петр Александрович Миусов – двоюродный брат первой жены Федора Павловича и Аделаиды Ивановны; Калганов – дальний родственник Миусова; Смердяков, согласно легенде, основательно укоренившейся в умах жителей Скотопригоньевска, сын Федора Павловича. Грушенька, как выяснилось на суде (конец романа!), двоюродная сестра Ракитина. Ранее на предположение Алеши об этом родстве Ракитин отреагировал так: «Я Грушеньке не могу быть родней, публичной девке, прошу понять-с!» (14: 77). Ценность родственных отношений определяется социальным положением. Весь скандал в монастыре, нужно заметить, разгорается от нежелания признавать Петром Александровичем родственную связь с Федором Карамазовым. Поэтому очень значимым становится подтекст фразы Зосимы, обращенной к собравшемуся у него в келье карамазовскому семейству: «Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома (курсив мой. – Н. К. )» (14: 40). У Карамазовых нет своего дома ; старец предлагает им обрести дом – духовный.
Все остальные герои (Катерина Ивановна – Грушенька – Карамазовы) могли бы быть вовлечены в единый родственный круг (по крайней мере, предпринимали попытки к этому), если бы оказались способными на любовно-духовную связь. Но в романном мире семьи создаются по иному принципу. Ракитин собирается образовывать семью по финансовым соображениям: «строя куры Хохлаковой», он мечтает о деньгах, на которые каменный дом в Петербурге купит (15: 29). Первая супруга Федора Павловича – Аделаида Ивановна Миусова, «девушка с приданым, да еще и красивая» (заметим, красота – дополнительная характеристика, наличие приданого – основная!) – мужа своего презирала, обоюдной любви вовсе не было. Их общий ребенок – Дмит- рий, которого в трехлетнем возрасте мать оставила, сбежав с любовником. Отец же завел в доме гарем, о сыне забыл совершенно. Родня ребенка по матери тоже о нем забыла. Митю принял на свое попечение слуга Григорий. Далее взялся за воспитание «сироты» двоюродный брат Аделаиды Ивановны Петр Александрович Миусов, однако вскоре, уезжая в Париж, поручил ребенка одной из своих двоюродных теток, потом и вовсе забыл о нем. Когда тетка умерла, Митя перешел к одной из ее замужних дочерей. В итоге отношения «отец – сын» установились на денежной основе: они заключили сделку на получение сыном доходов с имения.
Вторая супруга Федора Павловича Софья Ивановна была безродной с детства, выросла в богатом доме знатной генеральши. Федор Павлович прельстился ее невинной красотой и, пользуясь ее смирением и безответностью, устраивал в доме оргии. Их общие дети – Иван и Алексей – так же, как Митя, были забыты и заброшены отцом и так же попали к Григорию. Потом детей взяла к себе генеральша, у которой росла Софья; после ее смерти о них стал заботиться Ефим Петрович Поленов. Братья Карамазовы встретились друг с другом уже взрослыми!
Лизавета Смердящая тоже человек без семьи. Мать ее умерла, отец, бездомный, разорившийся, сильно запивавший мещанин, часто бил дочь. Когда же он умер, сирота Лизавета обрела иную – духовную – семью . С окружающими незнакомыми людьми у героини установились теплые, родственные отношения: ее впускали в дом, угощали калачиками и бубликами, и так же легко принимали их, когда отдавала она. Это те отношения, которые формирует подлинное человеческое общество. Факт того, что сиротство человека находит отклик в сердцах других, указывает на возможность преодоления его в мире. Лизавета родила Павла Смердякова в бане Карамазовых (молва приписала отцовство Федору Павловичу). Новорожденного и умирающую мать нашел Григорий, он «взял младенца, принес в дом, посадил жену и положил его к ней на колени, к самой ее груди: “ Божье дитя-сирота – всем родня , а нам с тобой подавно. <…> Питай и впредь не плачь” (курсив мой. – Н. К. )» (14: 92–93). Здесь скрыта очень важная мысль о всеобщем родстве человечества как его исконном состоянии.
Эту идею заключает в себе и образ младшего брата Карамазова. Алеша находит дом везде, где оказывается. «Очутившись в доме своего благодетеля и воспитателя, Ефима Петровича Поленова, он до того привязал к себе всех в этом семействе, что его решительно считали там как бы за родное дитя (курсив мой. – Н. К. )» (14: 9). После смерти Поленова его дальние родственницы приютили мальчика… Однако бездомность Алеши – не сиротство Дмитрия или Ивана, но существование со всеми, как с родными.
Капитан Снегирев (когда Алеша войдет в его избу) произнесет фразу, очень точно отражающую сущность семьи в ее должном воплощении: «Позвольте же отрекомендоваться вполне: моя семья, мои две дочери и мой сын – мой помет-с. Умру я, кто-то их возлюбит-с? А пока живу я, кто-то меня, скверненького, кроме них возлюбит? Великое это дело устроил Господь для каждого человека в моем роде-с. Ибо надобно, чтоб и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с…» (14: 183). На вопрос сомневающейся в вере матери Лизы Хохлаковой: «Чем доказать?» – Зосима отвечает: «Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить Ваших ближних деятельно и неустанно» (14: 52). Важно подчеркнуть то, что Зосима говорил о любви к ближнему, а не к абстрактному человечеству, как мыслит Хох-лакова. Любовь к ближнему – единственно возможная основа образования семьи. Старец явил собой действительный пример человеческого единения. Через восемь лет он встретил своего денщика Афанасия, которого как-то в порыве злобы ударил. Тот обрадовался, пригласил в дом, а прощаясь, дал полтину. Это был момент «великого человеческого единения». Показательно пояснение Зосимы: «Почему не быть слуге моему как бы мне родным , так что приму его наконец в семью свою и возрадуюсь сему? (курсив мой. – Н. К. )» (14: 287–288). Достоевский создает невидимые параллели, усиливающие контраст наличного мира и должного быть: Смердяков – брат (по отцу) Ивану, Дмитрию, Алеше – становится, по сути, их слугой . «Земной» сюжет оказывается перевернутым по отношению к тому, что может быть и что случается эпизодически, как отблеск истинного человеческого сосуществования.
В карамазовской семье любовь к ближнему заменена на апелляцию к суду, родственные отношения – на экономические. В художественном мире романа потеряно Отцовское начало – не только в физическом (убийство), но и в метафизическом смысле, любовь Отца.
Смердяков – олицетворение дьявольской силы, испытующей духовную прочность людей, проверяющей их способность к всечеловеческому единению (иначе – способность вступить в отношения всечеловеческого родства). По желанию людей он устраняет Отца – высшее начало, то есть дает материальное воплощение греху, поселившемуся в душах брата Мити и брата Ивана… и не только. Лиза в разговоре с Алешей делает примечательное наблюдение: все любят, что Митя отца убил, – и Алеша соглашается.
Пренебрежение родственной связью во второй книге романа умножается на поругание святости чувства любви: любовные отношения героев выстраиваются на ложных принципах. К ссорам отца и сына из-за спорных денег добавляется «нелепое и уродливое» соперничество за сладострастное обладание Грушенькой. Дмитрий готов уступить Ивану свою невесту Катерину Ивановну. Сюжетный ход – в начале романа невестой Мити была Катерина Ивановна, в конце невестой становится Грушенька – метафорически воплощает, полагаем, антитезу: брак, искаженный в своей духовной сущности, и брак действительный, который созидается, в первую очередь, прощением ложной любви. Катерина Ивановна – ложная невеста Мити, неспособная «подать луковку», не верующая в невиновность Мити; Грушенька – истинная, поверившая слову жениха «не я убил». Она в самый нужный момент оказывает духовную помощь Мите, «поддерживает душу». Не случайно вопрос о венчании становится главным для невинно осужденного героя. Грустно-символично получилось: Митю арестовали в тот самый миг, когда Груша стала его невестой.
Обозначенную нами антитезу далее усиливает вопрос о доверии и поддержке. Катерина Ивановна выписывает из Москвы доктора, для того чтобы тот засвидетельствовал помешательство Мити в момент совершения убийства. И она оказывается не одинокой в своих побуждениях. Иван также убежден в виновности Мити, точнее, ему очень хочется быть в этом убежденным, поскольку это означает: не он, Иван, убил. Ракитину нужно написать статью с направлением: «нельзя было ему не убить, заеден средой».
Грушенька же оказалась способной поверить в невиновность Мити, на что он «дрожащим голосом отозвался»: «Спасибо, Аграфена Александровна, поддержала душу!» (14: 455). Митя вопрошает и Алешу, верит ли тот в его виновность, и на отрицательный ответ отзывается: «– Спасибо тебе! <…> Теперь ты меня возродил … (курсив мой. – Н. К. )» (15: 36).
Со стороны Катерины Ивановны мы видим требующую одобрения, поощрения добродетель, помощь «на показ». Она прислала Дмитрию записку, в которой предлагается к нему в невесты с целью спасти его. «Она свою добродетель любит, а не меня, – невольно, но почти злобно вырвалось вдруг у Дмитрия Федоровича» (14: 108). От Алеши героиня тоже ждет поощрения своего «сестринского» чувства, считает себя пожертвовавшей ему жизнь. Катерина Ивановна очень хотела, чтобы Груша отказала Дмитрию. Соперничество между невестами – и с той, и с другой стороны – не столько исключительно за жениха, сколько за удовлетворение своего самолюбия, эго-желания обладать другим: Катерина Ивановна «любит» Митю, чтобы быть добродетельной и поощряемой за это (не хочет быть невестой, но другом или сестрой!), Грушенька Митей забавлялась, чтобы к другому не бежать (то есть не выглядеть «собачонкой»).
Истинная братне-сестринская духовная связь возникнет между Алешей и Грушенькой. Ракитин ведет Алешу к Грушеньке, преследуя двойную цель: 1) увидеть «позор праведного» и вероятное «падение» Алеши («проглотить» гостя желала и Груша); 2) получить 25 рублей от Грушеньки, обещанные ею за «доставку» ангела Алеши. Но у Груши пропадает желание «глотать» ангела после услышанной новости о смерти старца Зосимы. И это действие героини имело первостепенное значение для Алеши: «Я шел сюда злую душу найти – так влекло меня самого к тому, потому что я был подл и зол, а нашел сестру искреннюю, нашел сокровище – душу любящую… <…> Ты мою душу сейчас восстановила (курсив мой. – Н. К.)» (14: 318). Для Груши нареченность сестрой тоже оказалась очень значимой, она призналась в том, что никогда этого не забудет. Это, на наш взгляд, один из ключевых эпизодов романа, поскольку заключает в себе важную авторскую мысль: духовная поддержка обладает эффектом отражения, усиливая, делая более прочной связь между людьми.
В целом важность подобного сестринского чувства в человеческом обществе раскрывает рассказанная Грушей басня, которую она слышала от кухарки Матрены. Басня повествует о злющей-презлющей бабе, хотевшей единолично спастись из огненного озера посредством протянутой ангелом луковки. Луковка, точно замечает Т. А. Касаткина, «становится связью , соединяющей личности в единство, которое и есть рай». «Таким образом, согласно “Луковке”, в ад попадают неспособные к восстановлению, к воссоединению со всеми». «Пребывание в аду <…> есть закупоривание внутри своей самости, без внутренней возможности установить связь со всем, и тем более без возможности эту связь, будь даже она случайно установлена, сохранить» [9: 307–308]. Аналогично раскрывает смысл легенды о луковке Е. В. Костенко: «К спасению можно прийти не индивидуальным путем, а всем вместе», то есть в легенде явлен «путь соборного спасения» [12: 88–90]. Груша в данном эпизоде сделала шаг к обретению подлинной связи со всеми. Алеше суждено еще более эту связь укрепить: через вид е ние он стал участником брачного пира в Кане Галилейской. Эта евангельская аллюзия образует метафизический подтекст, выражая на глубинном уровне основную идею романа. На свадебном пире – то есть на пире, обозначающем зарождение новой семьи, – могут быть только те, кто способен преодолеть погруженность в себя и обратить свою душу к другому. Иначе: действительная семья – это союз людей, созидающийся на духовно-любовной основе. И в этом союзе нужно уметь не только подавать , но и принимать луковку.
Грушенька просит у Мити прощения – за то, что думала: любит другого, за то, что мучила его со злобы. Далее в ее словах возникает мотив всеобщего прощения: «Кабы Богом была, всех бы людей простила: “Милые мои грешнички, с этого дня прощаю всех”. А я пойду прощения просить: “Простите, добрые люди, бабу глупую, вот что”. Зверь я, вот что. А молиться хочу. Я луковку подала» (14: 397). Но для того, чтобы прощать, не нужно быть Богом. Примечательно: сама героиня хочет просить прощения именно у людей, а не у Бога (простите, добрые люди…).
Митя так же, как и Алеша, признается в том, что Грушенька подала ему луковку. Он «просит луковку» и у Алеши, говоря ему о предложении Ивана бежать и спрашивая совета. Герой не может выбрать: с одной стороны, без Груши он жить не в состоянии, а каторжных, возможно, не венчают; с другой – от страдания убежит. И Алеша «подает луковку»: «После суда сам и решишь; тогда сам в себе нового человека найдешь, он и решит» (15: 35). Митя решил. «Если я и убегу, даже с деньгами и паспортом и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, не хуже, может быть, этой!» (15: 186).
Когда Дмитрий узнал о том, что Григорий жив, его первым порывом было поделиться радостью с Грушенькой. «Этот старик, – признается герой, – ведь он носил меня на руках, господа, мыл меня в корыте, когда меня трехлетнего ребенка все покинули, был отцом родным !.. (курсив мой. – Н. К. )» (14: 413–414). Смерть Григория (если бы это случилось) более острой болью отозвалась бы в душе Мити, нежели отозвалась смерть собственного, генетически родного, отца. Отцовство, как мы уже указали, многогранное понятие у Достоевского, где прямой смысл почти полностью нивелируется глубинным, философским. И радость о том, что жив «отец родной», обязательно нужно разделить с невестой, которая способна радоваться такой же радостью. Так рождается одна радость на всех – радость прочной духовной связанности родственных душ.
Читая сон Мити о плачущем «дитё», мы понимаем, что здесь тоже радость духовного просветления неотделима от мысли существования невесты и ощущения себя как жениха. Но на эту духовную перемену Мити нет отклика среди власть имущих. Искренно обращаясь к суду, герой просит поверить в его невиновность, но не получает ответа. Иная реакция народного мира. Когда осужденного увозили, «у ворот столпились люди, мужики, бабы, ямщики, все уставились на Митю.
– Прощайте, Божьи люди! – крикнул им вдруг с телеги Митя.
– И нас прости, – раздались два-три голоса» (14: 460).
Иная реакция и невесты Грушеньки:
«– Сказала тебе, что твоя, и буду твоя, пойду с тобой навек, куда бы тебя ни решили. Прощай, безвинно погубивший себя человек!
Губки ее вздрогнули, слезы потекли из глаз» (14: 460).
Когда Катерина Ивановна приходит к Мите после совершившегося суда, его первый вопрос: «простила или нет?» Вопрос самый важный в данный момент: только положительный ответ «поддержит душу». Но героиня не в состоянии понять всю значимость этого вопроса для Мити.
Один эпизодический, на первый взгляд, диалог многое добавляет к художественной концепции романа. Груша приютила «скитающегося приживальщика» Максимова, который говорит ей:
«– Я Ваших благодеяний не стою-с, я ничтожен-с, – проговорил слезящимся голоском Максимов. – Лучше бы Вы расточали благодеяния Ваши тем, которые нужнее меня-с.
– Эх, всякий нужен, Максимушка, и по чему узнать, кто кого нужней» (15: 8).
«Нужность» каждого, невозможность устранить ни одного, если человечество хочет жить в светлом, гармоничном мире, есть составляющая идеи всеобщей – семейной – связанности. Поэтому далее герои заняты в основном тем, что решают для себя вопрос о своей «нужности» в человеческом целом. Лиза Хохлакова, например, признается, что не хочет быть счастливою, а хочет, чтобы кто-нибудь ее истерзал, обманул… Она не желает делать доброе, у нее есть внутренняя потребность делать злое – чтобы нигде ничего не осталось. Остро ощущая необходимость помощи, которую Алеша действительно может ей оказать, и отказываясь от нее, Лиза лишает себя возможности быть членом всечеловеческой семьи; она не готова быть женой Алеши. Их намечавшийся брак так и не состоится.
Не случайно в финале романа Митя посылает Алешу к Ивану: он понимает, что только младший брат способен вернуть Ивана в большую семью . «“Люби Ивана!” – вспомнились ему вдруг сейчашние слова Мити» (15: 36). И Алеша идет к брату.
На неверие Алеши в то, что Митя убил, Иван «холодно» и даже «высокомерно», а потом «свирепо» спрашивает: кто же? Брат отвечает: «Не ты убийца, слышишь меня, не ты! Меня Бог послал тебе это сказать» (15: 40)… Фраза «не ты убил», безусловно, одна из самых «многослойных» в романе и, может быть, одна из самых загадочных. Она – и отражение всепрощающей безусловной любви (которую Иван воспринял как сигнал того, что у брата была мысль о его, Ивана, виновности), и попытка облегчить душевную боль родного человека, сняв с него ощущение греховности. Иван не принимает «луковку» Алеши: заявляет, что разрывает с ним навсегда, и уходит, не оборачиваясь. Возможно, герой чувствует, что труд покаяния и очищения для него очень тяжел или вовсе неподъемен. Возможно, и Алеша это почувствовал, потому и проявил сострадание-жалость к слабости брата. Символичный эпизод: у Смердякова Иван видит книгу «Святого отца нашего Исаака Сирина слова» и накрывает ею три тысячи, украденные слугой у Федора Павловича, то есть он механически устраняет из поля видимо- сти атрибут преступления, тогда как «устранение» должно произойти в его внутреннем человеке – том, который воскрес в Мите. Для Ивана еще закрыт путь поиска в себе Божественного начала. Смердяков недвусмысленно намекнул, что герой не найдет «третьего», то есть Бога. Стоит отметить, что изначально Смердяков испытывал Ивана на «пункте» – желает или не желает он смерти отца, а потом высказал ему: если он уехал, то тем самым дал понять, что не препятствует убийству отца. Слова лакея: «Главный убивец во всем здесь единый Вы-с, а я только самый не главный, хоть это и я убил. А Вы самый законный убивец и eсть!» (15: 63) – прямо противоположны словам Алеши. Смердяков обнажил перед Иваном суть его в настоящий момент (допустив в своем сознании убийство отца, Иван становится таким образом сопричастным людскому отвержению высшего начала жизни) – Алеша обозначил его сущность, должную быть.
При третьем свидании со Смердяковым Иван решает признаться в своей виновности, после чего поднимает с заботой и пристраивает мужичонка, которого, идя к Смердякову, ударил и оставил замерзать на улице. В статье Н. И. Квашко и В. В. Соломоновой есть интересное наблюдение: «Иван, наткнувшись на пьяного мужика без сознания, хлопочет о нем, устраивая на ночлег, не жалеет для него денег, слово в слово почти повторяя евангельскую притчу о добром Самарянине. Для чего же? Иисус говорит эту притчу законнику, задавшему вопрос “а кто мой ближний?” <…> утверждая ближним любого человека, а особенно нуждающегося в любви и помощи. Именно это-то и делает Иван, прежде утверждавший невозможность такой любви» [10: 72].
Показательно, что признание Ивана происходит вопреки тому, что герой получает математическое доказательство виновности Мити – его письмо с грозным обещанием убить отца, чтобы вернуть деньги Катерине Ивановне. Более того, позже Алеша сообщит Ивану о том, что повесился Смердяков. Соответственно, для Ивана наступит ситуация свободы от подозрений… Но он признаётся. И открывает себе этим признанием путь к воссоединению с человеческим целым.
В художественном мире романа есть еще одна семья – Снегиревых, в доме которых установилась мрачная атмосфера предчувствия смерти. Илюша, желая облегчить горе отца, советует взять другого мальчика вместо него. Реакция отца – самая правильная: «Не хочу хорошего мальчика! не хочу другого мальчика! <…> Аще забуду тебе, Иерусалиме, да прильпнет…» (14: 507). Алеша пояснит эту библейскую аллюзию: «Это из Библии: “Аще забуду тебе, Иерусалиме”, то есть если забуду все, что есть самого у меня драгоценного, если променяю на что, то да поразит…» (14: 508). Но «самое драгоценное» в этой семье давно разрушается – «усилиями» наивноэгоистичной матери: пушечку, которую Коля принес в подарок Илюше, мама хочет иметь как подаренную ей. Илюша же лишен эгоизма, он с легкостью отдает пушечку маме. Не случайно подлинное человеческое единение в романе состоялось среди мальчиков. На похороны Илю-шечки собралось человек двенадцать его товарищей. Один из них – Коля – очень хочет, чтобы друга можно было воскресить.
Идея воскресения каждого умершего, созвучная «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова, отображает в художественном пространстве Достоевского необходимость духовной связанности каждого с каждым в человеческом мире, то есть мечту писателя о мире как единой семье. Не случайны здесь образы детей. Федоров в своей книге очень определенно говорит о том, что именно дитя, «не только не понимающее еще ни рангов, ни чинов, ни всех отличий, установившихся вне Царствия Божия, разрушивших родство, возникших на его развалинах, но и сознающее свое родство со всеми без различия положений или не знающее ничего, вне родства заключающегося», способно на духовное единение с человеческим целым [19]. Алешин завет мальчикам звучит так: «Не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви нашей к бедному мальчику, может быть, лучшими, чем мы есть в самом деле» (15: 195). Они идут на поминки «рука в руку». Жизненный путь не может быть в одиночку.
Карамазовская семья в романе стала образом всего человеческого мира – в наличном его состоянии. Союз мальчиков, собравшихся у камня, это тот образ человеческого единения в любви, к которому идут три брата Карамазовы: воистину, «Бог дал родных, чтоб учиться на них любви ».
Список литературы Художественный смысл родственных отношений героев в романе Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы"
- Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». СПб.: Пушкинский Дом, 2007. 640 с.
- Волынский А. Л. Человекобог и Богочеловек//О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли. М.: Книга, 1990. С. 74-85.
- Гачева А. Г. Ф. М. Достоевский и Н. Ф. Федоров: линии духовного родства//Текст, контекст, интертекст. Т. 3. М.: МГПУ, 2012. С. 61-75.
- Джексон Р. Л. Речь Алеши у камня: «целая картина»//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Вып. 4. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. С. 275-295.
- Евлампиев И. И. Между «сладострастием насекомого» и «громовым воплем восторга серафимов»: смысл человеческой жизни в художественном мире Ф. Достоевского//Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2009. Вып. 2. С. 25-36.
- Захаров В. Н. Осанна в горниле сомнений//Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения. М.: Наука, 2007. С. 694-710.
- Зверева Т. В. Проблема слова и структура романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Ижевск: УГУ, 1998. 122 с.
- Каминская К. В. Евангельские мотивы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»//Филологические этюды. Саратов: Научная книга, 2007. Вып. 10. Ч. 1-2. С. 68-73.
- Касаткина Т. А. «Братья Карамазовы»: опыт микроанализа текста//Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения. М.: Наука, 2007. С. 283-319.
- Квашко Н. И., Соломонова В. В. Тесные врата «спасения» (путь Ивана Карамазова в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»)//Святоотеческие традиции в русской литературе. Омск: Вариант-Омск, 2009. С. 68-73.
- Ковина Е. В. Художественная картина мира в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: время, пространство, человек: Дис.. канд. филол. наук. СПб., 2005. 266 с.
- Костенко Е. В. «Легенда о луковке» как символ милосердия//Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Владивосток: Типография ДГТУ, 2009. № 4 (8). С. 88-90.
- Ларионова О. А. Духовный путь человека: опыт земной жизни старца Зосимы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»//Альманах современной науки и образования. Языкознание и литературоведение в синхронии и диахронии. Ч. 1. Тамбов: Грамота, 2007. С. 175-177.
- Мелетинский Е. М. Достоевский в свете исторической поэтики. Как сделаны «Братья Карамазовы». М.: РГГУ, 1996. 112 с.
- Сосницкая Е. В. Путь духовного совершенствования личности (роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»)//История. Культура. Духовность. Калуга: Полиграф-Информ, 2005. Вып. 5-6. С. 99-104.
- Степанян К. А. «Братья Карамазовы»: лик земной и вечная истина//Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения. М.: Наука, 2007. С. 711-731.
- Тарасов Ф. Б. Евангельский текст в художественной концепции «Братьев Карамазовых»//Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения. М.: Наука, 2007. С. 332-378.
- Фарафонова О. А. Мотивная структура романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: Дис.. канд. филол. наук. Новосибирск, 2003. 202 с.
- Федоров Н. Ф. Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.litres.ru/nikolay-fedorov/vopros-o-bratstve-ili-rodstve-o-prichinah-nebratskogo-nerodstvennogo-t-e-nemirnogo-sostoyaniya-mira-i-o-sredstvah-k-vosstanovleniu-rodstva (дата обращение 14.05.2014).
- Шараков С. Л. Идея спасения в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 3. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. С. 391-398.