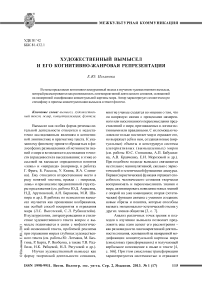Художественный вымысел и его когнитивно-жанровая репрезентация
Автор: Ильинова Елена Юрьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация
Статья в выпуске: 1 (17), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен когнитивно-дискурсивный подход к изучению художественного вымысла, который рассматривается как разновидность лингвокреативной деятельности сознания, основанной на намеренной модификации концептуальной картины мира. Автор характеризует семиотическую специфику и приемы концептуализации вымысла в тексте фэнтези.
Вымысел, художественный текст, жанр, концептуализация, фэнтези
Короткий адрес: https://sciup.org/14969678
IDR: 14969678 | УДК: 8142
Текст научной статьи Художественный вымысел и его когнитивно-жанровая репрезентация
Вымысел как особая форма речемыслительной деятельности относится к недостаточно исследованным явлениям в когнитивной лингвистике и прагматике текста. К указанному феномену принято обращаться в философских размышлениях об истинности знаний о мире и возможности достижения точности (правдивости) в высказывании; в этике со ссылкой на вымысел определяются понятия «ложь» и «неправда» (например, в работах Г. Фреге, Б. Рассела, У. Квина, Я.А. Слини-на). Ему отводится второстепенное место в ряду понятий «истина, правда : : неправда, ложь» и при анализе предикативной структуры предложения (см. работы Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, А.Н. Баранова, М.И. Шапира и др.). В работах по психологии вымысел изучается как проявление воображения, как особый способ восприятия и отражения мира (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн). В культурологии, литературоведении и стилистике художественного текста вопрос о вымысле поднимается в связи с мифологической символикой текста, проблемой реализма при отражении мира в глубинах художественного текста (см. работы Ю. Лотмана, М. Бахтина, Р. Барта, Р. Якобсона, а также Т.В. Рад-биля, Н.К. Рябцевой, Н.Л. Рягузовой и др.).
Изучая художественный вымысел как форму творческой деятельности сознания, многие ученые сходятся во мнении о том, что он напрямую связан с процессами намеренного или неосознанного переосмысления представлений о мире, признаваемых в логике истинными или правдивыми. С их помощью человек не только постигает мир и отражает его, но выражает себя в нем, создавая новые (виртуальные) объекты и конструируя системы альтернативных (вымышленных) миров (см. работы Ю.С. Степанова, А.П. Бабушкина, А.В. Кравченко, Е.И. Морозовой и др.). При подобном подходе вымысел связывается не столько с манипулятивной, сколько с эвристической и эстетической функциями дискурса. Первая (эвристическая) функция отражает способность человеческого сознания творчески воспринимать и переосмысливать знания о мире, активизировать появление новых знаний с опорой на уже имеющиеся; вторая (эстетическая) функция связана с умением создавать новые образы и понятия, которые способны вызвать эмоционально-эстетический отклик у других членов общества [3, c. 7].
Анализ различных точек зрения и подходов к изучению вымысла позволяет предложить еще один аспект его рассмотрения – как разновидности лингвокреативной деятельности сознания, основанной на намеренной модификации концептуальной картины мира (смысловых трансформациях) и получающей вербальное воплощение в языке и тексте [4, c. 166]. При этом смысловые трансформации характеризуются системностью и отражают особый когнитивный стиль мышления, он материализуется в различных жанрах произведений литературы и формах искусства. В частности, здесь можно говорить о гетерогенности описания мира и его оценки, свойственной некоторым жанрам художественной речи. Под жанром в данном случае понимается когнитивная программа формирования речевого сообщения [1, c. 52], или лингвокогнитивная стратегия порождения текста, которая реализуется с помощью стереотипных коммуникативно-речевых действий, сложившихся в ходе развития текстовой культуры отдельного этнокультурного сообщества [5, c. 61].
Интеграция отдельных признаков жанра определяет специфику нормативности литературной речи, а вариативный набор речевых действий отражает и стереотипное, и креативное видение мира в текстовой форме. Именно поэтому вымысел как разновидность речемыслительной деятельности может обслуживать разные интенции и прагматические задачи в общении, в частности, вымысел становится доминантным приемом порождения текстов в жанре фэнтези.
В англоязычной культуре он представлен некоторым числом фольклорных и литературных форм, например: Historical fantasy; High/ Heroic Fantasy; Comiс and Low fantasy; Contemporary fantasy (Elfpunk, Urban, Dark, Erotic, Juvenile fantasy, etc., а также Alternative history fantasy, Superhero fantasy) . Их отличает особая организация пространства и времени, гибридный характер событий, которые одновременно происходят в реальном и ирреальном пространстве, в них обычные люди входят в мир Зазеркалья, контактируют со сверхъестественными существами и попадают в странные ситуации. Современный человек мало верит в правдивость сюжетов, полностью построенных на вымысле, но литература жанра фэнтези развлекает его, а порой заставляет задуматься о будущем.
Художественное пространство, воссоздавая важные вехи материального мира, представляет собой весьма сложно организованный феномен. Как отмечала З.Я. Тураева, «художественное пространство есть форма бытия идеального мира эстетической действительности, форма существования сюжета, пространственно-временной континуум изображаемых явлений, отличный от реального пространственно-временного континуума. Эта пространственно-временная форма присуща только художественному тексту, не как элементу материального мира, который существует в реальном времени, а как образной модели действительности, которая создается в произведении» [11, c. 20]. Иными словами, художественное пространство-время образует остов сложной модели мира, формируемой отдельной творческой личностью. Структура хронотопа, фигуры и фон являются результатом выбора автора, но способы его конструирования обусловлены стереотипными ходами, заложенными в речемыслительной компетенции человека. Автор лишь выбирает художественную форму для выражения своих впечатлений о мире, которые, будучи многократно повторенными, становятся характеристиками литературного жанра.
В филологическом анализе концептуальную пару «пространство-время» принято представлять в двух основных вариантах – реальный и ирреальный континуум художественного текста.
Реальное художественное пространство достаточно правдоподобно, но с некоторой долей неточности описывается в литературе как существующий (или реально существовавший) мир. Как отмечала З.Я. Тураева, автор может объективно представить перцептуальный (воспринимаемый) мир, пребывая в области «вненаходимости» (термин был предложен М.М. Бахтиным), или субъективно (концептуально), с помощью образных пространственных измерений передавая собственные мысли и идеи [там же, c. 22].
Объективность материального мира чаще всего представляется посредством относительно точных описаний фрагментов земной действительности. Пространство при этом может изображаться обзорно или, по словам Е.С. Кубряковой, расстилаться во все стороны. «Это – протяженность, сквозь которую скользит его [человека] взгляд (про-стран-ство) и которая доступна ему при панорамном охвате» [7, c. 26]. Такое панорамное пространство может быть открытым и замкнутым, линейным (горизонтальным и/или вертикальным), в нем человек находится в пути, перемещает объекты. Для уточнения траек- тории линейного перемещения в тексте появляются пространственно-временные ориентиры, и с их помощью автор может замедлять и ускорять движение и время. Помимо линейной горизонтальной и вертикальной перспективы выделяются перекрестная, круговая и секторная перспективы, отмечается наличие смешанных перспектив. В художественном тексте выделяются следующие приемы, моделирующие внутритекстовое пространство: сужение перспективы (концентрических кругов) к центру; расширение перспективы от центра вверх до линии, замыкающей обзор; ракурсное изображение (вид сверху, вид издали) (см. об этом также: [7; 12, с. 18]).
Подобно пространству реальное художественное время редко бывает полностью объективным – линейным, однонаправленным, нацеленным из прошлого в настоящее и будущее, необратимым. Оно чаще представляется как субъективное, нелинейное, прерывистое, неоднородное, с обилием аномалий, нарушающих общие представления о мерности и направленности времени в будущее. Категория художественного времени играет существенную роль в представлении вымысла в художественном тексте. С его помощью автор в каждом конкретном случае создает новый образ мира, располагая его в разных временных точках и периодах: «художественное время не есть непосредственное отражение реального времени. Это образная модель действительности. В нем сочетаются отражение объективного мира (незеркальное, непрямое, иерархическое) и вымысел. Художественное время характеризует переплетение свойств реального, перцептуального и индивидуального времени» [11, с. 87].
Художественное пространство-время часто отличается антиномиями, сочетающими свойства непрерывности и дискретности и нарушающими другие свойства пространства и времени. В зависимости от нормативных признаков избранного жанра автор в одном произведении может сочетать оба пространства-времени – реальное и ирреальное, формируя пространство текста вокруг относительной точки отсчета, представляя не только непрерывный поток времени, но и его отдельные фазы, основанные на таких относительных представлениях о ходе времени, как сначала, сперва, прежде, теперь, потом, в дальнейшем. В вымышленном пространстве возможен и обратный ход времени, а также такой мир, в котором время представляется как бы застывшим, неподвижным [6]. В замысел автора художественного произведения может входить не только остановка или обратный ход времени, но и необходимость строить параллельные (или «трансфизические миры» – термин Д. Андреева) [8, с. 94]. Реальный мир, который отличается стабильностью, устоявшимися пространственновременными параметрами, привычным соотношением субъектов и объектов, противостоит ирреальному миру; при конструировании последнего наблюдается искажение привычного видения мира: автор изображает нереальные события, создает неправдоподобные картины, допускает неточности и серьезные категориальные трансформации при изображении субъектов и объектов в ирреальном пространстве-времени.
Такие миры принято называть иррациональными и характеризовать их как «миры мистические, астральные, спиритуальные, оккультные, сверхъестественные» [9, с. 82]. В подобных случаях события в сюжетном пространстве художественного текста могут быть отнесены фантазией автора к далеким мирам, время в которых называется инфернальным, волшебным, мифологическим, сказочным, фантастическим, фантасмагорическим, временем Зазеркалья .
Ирреальные миры по своим онтологическим свойствам существенно отличаются от мира реального. Они неустойчивы, легко меняют свои характеристики, допускают смешение и смещение временных и пространственных планов. Они всегда строятся автором на фоне мира реального, при этом его основные черты – мерность, непрерывность, линейность, дискретность, необратимость – подвергаются смысловым искажениям. Точка отсчета времени для вымышленного ирреального мира может быть помещена в любом временном отрывке, пространственное расположение объектов может получить весьма нетрадиционное решение. Заметим, что степень и характер смысловых искажений прототипных признаков концепта «пространство-время» наиболее ярко проявляют- ся в фантазийных жанрах, связанных с изображением аномальных отношений и ирреальных объектов. Остановимся на данном положении подробнее.
Представление о вымысле в значительной степени противостоит гносеологии и онтологии научно обоснованной картины мира, где каждое наблюдаемое явление, каждый выделенный сознанием человека объект истинен, если проходит понятийно-категориальную аттестацию, получает объяснение, именование и вносится в «системный каталог сознания» [7], отражающий всеобщие основы и принципы бытия, его структуру и закономерности.
Наблюдения за характером логических противоречий при конструировании автором пространства-времени свидетельствуют о том, что если обычный язык передает представление о жизни как о сущности самостоятельной, от существования индивидуальной личности не зависящей, то в тексте художественном описание мироощущения писателя находится в безграничном пространстве вымысла. Язык помогает выразить любые смысловые «неправильности» [2]: при описании ирреального мира изменяется семантика слов и их сочетаемость, возникают новые языковые выражения, которые фиксируют и закрепляют отличное от стандартного, обновленное представление о привычном мире, что делает вымышленные ситуации ирреальными [3]. Характер этих «неправильностей» может быть самым разным, но их функция едина – представлять особый мир со своим пространством-временем, нестандартной системой измерения и пропорций в нем, с необычными, порой аномальными по своим свойствам объектами, размещаемыми в нем.
Ирреальный мир в жанре фантазии – мир вымысла, и по своим категориальным признакам, в первую очередь временным и пространственным, он отличается от реального мира. Его вехи неустойчивы, признаки и границы легко меняются, но одновременно с этим наблюдаются ассоциативные связи с признаками мира реального. В сюжетном пространстве фантазийного текста время реального мира с его непрерывностью, линейностью, необратимостью может существовать параллельно как фон либо как прямая противоположность миру реальному. Искажается и само представление о точке отсчета времени: она может быть помещена в любом временном пласте, в том числе в будущем или инфернальном. Так, отдельным персонажам романа Владимира Орлова «Альтист Данилов» приписывается способность «выскакивать за условную черту земного времени» – моментально перемещаться из одной точки пространства в другую или одновременно пребывать в нескольких, тем самым нарушая традиционное представление о течении времени: В то не существующее для людей мгновение, когда чувства Данилова переносились на Пиренейский полуостров, Данилов слышал множество радиосообщений о Кармадо-не. Но Данилову информация из вторых рук была не нужна. Не выходя из своего дома в Останкине, он уже грелся в Мадриде на площади Пуэрта дель Соль (Орлов, с. 107). При описании перемещений главного персонажа романа демона Данилова в разные точки пространства утрачивается параметр «измерение пространства-времени»: Времени в Москве не прошло ни секунды (Там же, с. 109). Как следует из дальнейшего повествования, тело персонажа может жить в земном времени, а «чувства» – вне его: В перерыве дневной репетиции Данилов взял посмотреть газеты... Он тихонько передвинул пластинку на браслете и опять чувствами попал в Мадрид. <...> Сдвинул пластинку на браслете. Пошел в буфет, взял бутылку воды «Байкал» и бутерброд с жесткой колбасой (Там же, с. 110–111).
В приведенных выше контекстах временные и пространственные аномалии бытия персонажа изображены на фоне течения обычного бытийного времени. На проекционное соотношение временных планов в романе автор указывает сам, описывая обстоятельства, при которых герой вынужден жить одновременно в «людском» и «демоническом» времени: Данилов сам себя изъял из людского времени. Если бы Кармадон отдыхал теперь в Москве... то Данилов, даже и переходя в демоны, оставался бы в людском времени. Но Кармадон был теперь в отъезде. Данилов же ни на секунду не мог исчезнуть из Москвы, вот в наблюдениях за Кармадоном он и вынужден был втискиваться в демоническое время. Данилов как бы в электричке, на ходу, разжимал закрытые двери и оказывался между ними, то есть на самом деле он разжимал людское время, был вне его, но двигался вместе с ним, а потом отпускал двери времени, они сжимались опять, и Данилов возвращался в то самое мгновение, из которого по необходимости вышел (Орлов, с. 132). Отметим, что, несмотря на явные нарушения логики, вымысел о возможности существования «иных миров» или о моментальных перемещениях человека во времени и пространстве представлен как вполне обычное явление, выполняющее, однако, эстетико-художественную функцию.
Изучение приемов изображения аномального хронотопа в текстах фантазийного жанра позволяет выделить некоторые типы искажения представлений о скорости течения времени (от ускорения до сжатия), нарушение хронологии, смешение времени реального и ирреального, востребованными становятся попытки выхода за границы признанного людьми пространства-времени, будто бы имеющего иные, аномальные единицы измерения. Они получают вербальное представление в художественном тексте. Мир космогонический характеризуется безграничностью, он не имеет ни начала, ни конца, это – бездна, вечность, бесконечность, расположенная вокруг космогонической оси. Обе его разновидности – астральное и инфернальное пространства – противостоят друг другу. Являясь внеземными сферами, они пусты, в них, как правило, не выделяются объекты или вехи, отмечающие путь. Астральное пространство представляется как космос, воздушный океан со странствующими в нем облаками, «синим эфиром», «эфирными просторами», характерными для представлений о мифологическом, сакральном времени. В фантазийном тексте авторов чаще влекут инфернальные дали – сфера обитания демонов, угрожающих Срединному миру – миру человека, раздираемого страстями. И тогда авторы изображают пространство неба и бездны как нечто неопределенное, бескрайнее, безграничное, пугающее . Под воздействием художественного вымысла нарушается хронологическая и историческая линейность времени: оно может становиться дис-
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ кретным, сжиматься в один миг или, наоборот, длиться бесконечно долго.
Особое лингвистическое решение получает колористика такого пространства: астральный мир, пространство и объекты в нем изображаются при помощи трех цветов – синего (голубого, лазурного, бирюзового), желтого (золотого, оранжевого, рыжего), красного (багрового, пурпурного, алого); инфернальный мир рисуется иными красками: чернота, серость, бесцветность передают тему тьмы, глухоты, хаоса; кроваво-красный оттенок – тему страха и угрозы. Вот как описывает инфернальный мир Владимир Орлов в романе-фантазии «Альтист Данилов»: Было черно, безвоздушно, холодно, но отчего-то сыро ...<...> ...место они подыскали отдаленное, на самой окраине бесконечного мира. <...> На небе тюльпаном висела угасающая звезда, розовый свет ее был томен и зловещ ... (Орлов, с. 193). Космос видится враждебным и бесцветным во многих произведениях Рэя Брэдбери: ... they let in the air that blew across the cold-white Martian seas, where only the sand tides dissolved and shifted and made ghost patterns, and they stepped out under a raw and staring cold sky ... (Breadbury, p. 338).
Как представляется, секрет мастерства автора кроется в умении создать нестандартный концептуальный бленд и детально описать мир иррациональный, в чем-то похожий, а в чем-то отличный от мира реального. Содержание текста оценивается читателем как отклонение от объективного представления о мире реальном, как нарушение тождества референциальных признаков субъекта, заложенных в понятийной картине мира действительного, но эти отклонения и определяют основу приема эстетико-художественной концептуализации вымысла при картировании «иного» мира.
Таким образом, художественный вымысел – это не произвольное фантазирование или обман, а иной взгляд на мир, особый способ конструирования мира, представленный в жанровой форме текста. Отметим еще раз, что этот мир (или новые миры) имеет определенную степень привязки к миру реальному – меру правдоподобия реальному (истинному, правдивому) миру. Мера подобия меняется не только в зависимости от индивидуального сознания автора, его творческих принципов и замысла, но и под влиянием нормативных канонов избранного литературного жанра текста.
Список литературы Художественный вымысел и его когнитивно-жанровая репрезентация
- Беляевская, Е. Г. Когнитивная модель стиля и факторы, обусловливающие динамику стилей/Е. Г. Беляевская//Вестник МГЛУ. -2012. -Вып. 5 (638): Языкознание, ч. 1. -С. 51-63.
- Дмитровская, М. А. «Переживание жизни»: о некоторых особенностях языка А. Платонова/М. А. Дмитровская//Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста/Ин-т языкознания; отв. ред. Н. Д. Арутюнова. -М.: Наука, 1990. -С. 107-114.
- Ильинова, Е. Ю. Вымысел в языковом сознании и тексте/Е. Ю. Ильинова. -Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2008. -513 с.
- Ильинова, Е. Ю. Вымысел как разновидность лингвокреативной деятельности сознания и его дискурсивная ценность/Е. Ю. Ильинова//Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2, Языкознание. -2008. -№ 2 (8). -С. 166-170.
- Ильинова, Е. Ю. О когниотипичности и эвристичности вымысла/Е. Ю. Ильинова//Вопросы психолингвистики: науч. журн. теорет. и прикл. исслед. -Волгоград: Парадигма, 2008. -№ 7. -С. 59-63.
- Кандрашина, Е. Ю. Представление знаний о времени и пространстве в интеллектуальных системах/Е. Ю. Кандрашина, Л. В. Литвинцева, Д. А. Поспелова; под ред. Д. А. Поспелова. -М.: Наука, 1989. -326 с.
- Кубрякова, Е. С. Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы)/Е. С. Кубрякова//Известия АН. Сер. «Литература и язык». -1997. -Т. 56, № 3. -С. 22-31.
- Папина, А. Ф. Текст: его единицы и глобальные категории/А. Ф. Папина. -М.: Едиториал УРСС, 2002. -368 с.
- Рябцева, Н. К. Аксиологические модели времени/Н. К. Рябцева//Логический анализ языка. Язык и время/РАН, Ин-т языкознания; отв. ред.. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. -М.: Индрик, 1997. -С. 81-97.
- Рягузова, Л. Н. Художественная правда и искусство «индивидуальной магии» в эстетике В. Набокова/Л. Н. Рягузова//Логический анализ языка. Между ложью и фантазией/отв. ред. Н. Д. Арутюнова. -М.: Индрик, 2008. -С. 481-493.
- Тураева, З. Я. Лингвистика текста: Текст: структура и семантика/З. Я. Тураева. -М.: Просвещение, 1986. -126 с.
- Яковлева, Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира: Модели пространства, времени и восприятия/Е. С. Яковлева. -М.: Гнозис, 1994. -343 с.