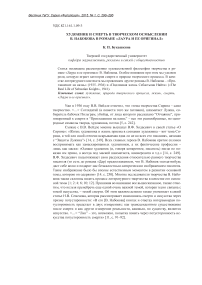Художник и смерть в творческом осмыслении В. Набокова в романе «Лаура и ее оригинал»
Автор: Букашкина Ксения Петровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению художественной философии творчества в романе «Лаура и ее оригинал» В. Набокова. Особое внимание при этом мы уделяем роли, которую играет категория смерти в природе творческого процесса. В качестве литературного контекста мы привлекаем другие романы В. Набокова – «Приглашение на казнь» (1935–1936) и «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» («The Real Life of Sebastian Knight», 1941).
Художник, природа творческого процесса, жизнь, смерть, "лаура и ее оригинал"
Короткий адрес: https://sciup.org/146121630
IDR: 146121630 | УДК: 821.161.1.09-3
Текст научной статьи Художник и смерть в творческом осмыслении В. Набокова в романе «Лаура и ее оригинал»
Уже в 1936 году В.В. Вейдле отметил, что «тема творчества Сирина – само творчество. <…> Соглядатай (в повести того же заглавия), шахматист Лужин, собиратель бабочек Пильграм, убийца, от лица которого рассказано “Отчаяние”, приговоренный к смерти в “Приглашении на казнь” – все эти разнообразные, но однородные символы творца, художника, поэта» [5, с. 242].
Схожее с В.В. Вейдле мнение высказал В.Ф. Ходасевич в своей статье «О Сирине»: «Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника – вот тема Сирина, в той или иной степени вскрываемая едва ли не во всех его писаниях, начиная с “Защиты Лужина”» [14, с. 249]. Всех главных героев В. Набокова критик склонен воспринимать как замаскированных художников, а их фактические профессии – лишь как маски: «Однако художник (и, говоря конкретнее, писатель) нигде не показан им прямо, а всегда под маской шахматиста, коммерсанта и т.д.» [14, с. 249]. В.Ф. Ходасевич подытоживает свои рассуждения относительно раннего творчества писателя (то есть до романа «Дар) предположением, что В. Набоков «когда-нибудь даст себе волю и подарит нас безжалостным сатирическим изображением писателя. Такое изображение было бы вполне естественным моментом в развитии основной темы, которою он одержим» [14, с. 250]. Многие исследователи творчества В. Набокова также склонны видеть процесс литературного творчества в качестве его основной темы [1; 2; 4; 6; 10; 12]. Принимая во внимание все вышесказанное, также отметим, что нельзя пренебречь еще одной очень важной темой, которая тесно связана с темой искусства, – темой смерти. Об этом важном аспекте также упоминает в своей статье Н.В. Семенова, которая рассматривает взаимосвязь смерти и искусства через призму потусторонности: «В его [В. Набокова] книгах и ответах интервьюерам потусторонность предстает в двух измерениях: как трансцендентное существование после смерти и как другое измерение реальности, каковым, по существу, является искусство. <…> “Лик” – это, возможно, попытка понять через потусторонность искусства потусторонность смерти» [11, с. 91–92].
Для того чтобы проследить эволюцию видения В. Набоковым природы творческого процесса и роли, которая отведена категории смерти в нем, мы обращаемся к нескольким романам писателя, созданным в различные периоды его творческого пути. Мы предлагаем сосредоточить внимание на тех произведениях В. Набокова, которые, по нашему мнению, нагляднее всего показывают взаимодействие категорий жизни/смерти и искусства: «Приглашение на казнь» (1935–1936), «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» («The Real Life of Sebastian Knight», 1941), «Лаура и ее оригинал» («The Original of Laura», 1975–1977). Все эти тексты роднит и то, что их героями являются писатели, произведения которых частично или полностью вписаны в основной текст В. Набокова.
Рассмотрим подробнее образы художников, которые В. Набоков создает в этих произведениях.
На первый взгляд, главного героя романа «Приглашение на казнь» Цинцин-ната Ц. нельзя назвать художником в полном смысле этого слова. Он лишен профессионально художественных признаков: работает в детском саду учителем разряда Ф, косноязычен (иногда не может даже связать слова в предложение: «Цин-циннат сказал: “Любезность. Вы. Очень (Это еще нужно расставить)”» [9, с. 7]. К литературе главный герой имеет опосредованное отношение: когда-то в прошлом он «по вечерам <…> упивался старинными книгами под ленивый, пленительный плеск мелкой волны, в плавучей библиотеке имени д-ра Синеокова» [9, с. 14] да, «работая в мастерской <…> долго бился над затейливыми пустяками, занимался изготовлением мягких кукол для школьниц, – тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький, в зипуне, и множество других, например: застегнутый на все пуговки Добролюбов в очках без стекол» [9, с. 14]. Несмотря на все это, он обладает поэтической душой. Это становится очевидным в сцене, когда Родриг Иванович, Роман Виссарионович и Цинциннат Ц. прогуливаются по башенной террасе: «Как это все обаятельно, – обратился Цинциннат к садам, к холмам <…>. Обаятельно! Я никогда не видал именно такими этих холмов, такими таинственными. Неужели в их складках, в их тенистых долинах, нельзя было бы мне» [9, с. 24]. Отмечает свой особенный душевный склад и сам главный герой (в сцене, когда Эммочка проникает в камеру незамеченной): «Будь ты взрослой, – подумал Цинциннат, – будь твоя душа хоть слегка с моей поволокой , ты, как в поэтической древности, напоила бы сторожей, выбрав ночь потемней… [выделено мною. – К.Б.]» [9, с. 24].
Осознавая неизбежность ожидающей его смерти, Цинциннат Ц. принимает решение записывать свои мысли. Это ключевой момент в медленном процессе сосредоточения его умственных сил и направления их в творческое русло. Главный герой в течение двадцати дней (каждому дню соответствует глава романа) создает собственное литературное произведение – исповедь, состоящую из писем, дневниковых записей, воспоминаний, философских этюдов. В совокупности эти разбросанные фрагменты составляют внутреннюю повесть, заключенную в текст.
Вначале мы видим, что главному герою тяжело выражать свои мысли на бумаге: «Цинциннат написал: “и все-таки я сравнительно. Ведь этот финал я предчувствовал этот финал”» [9, с. 6]. «А может быть <…> я неверно толкую… Эпохе придаю… Это богатство… Потоки… Плавные переходы… И мир был вовсе… Точно так же, как наши…» [9, с. 28–29]. Цинциннат Ц. сам признается, что одно из главных его желаний – это желание «высказаться – всей мировой немоте назло» [9, с. 51]. По мере записывания и размышления первоначальная бессвязность речи
Цинцинната Ц. сменяется все более вразумительными монологами (письмо к Мар-финьке), и, наконец, в день казни ему больше не нужен дневник, так как он осознает, «что, в сущности, все уже дописано» [9, с. 121].
Таким образом, карандаш главного героя, «просвещенный потомок указательного перста», да несколько листов составляют то единственное, чем Цинцин-нат Ц. отвечает на галантное приглашение на казнь. Главный герой пытается «исписать» свой страх и тем самым обезвредить смерть, что ему и удается сделать в конце романа. Цинциннат Ц. наконец-то находит простое и окончательное решение загадки своего неправдоподобного бытия. Все это время главный герой ошибался, полагая себя смертным; смутно осознав свою ошибку, он зачеркивает последнее слово в своем дневнике – «смерть». Внимательный читатель догадывается об этом с самого начала, так как В. Набоков оставляет подсказку в виде эпиграфа к роману: «Comme un fou se croit Dieu nous nous croyons mortels» («Как сумасшедший мнит себя Богом, так мы считаем себя смертными») [9, с. 6]. Последняя сцена в «Приглашении на казнь» доказывает, что Цинциннат Ц. достиг предельно ясного понимания своего положения и теперь готов вступить в новое для него царство творчества и свободы, он направляется «в ту сторону, где, судя по голосам, сто[ят] существа, подобные ему» [9, с. 130].
Несколько иную картину мы наблюдаем в романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта». Не страх смерти, а сама смерть становится поводом для написания сводным братом Себастьяна Найта, неким В., его биографии. Эта книга призвана рассказать весь творческий и жизненный путь писателя, то есть представляет собой образец жизнеописания: «Я хочу написать о нем книгу, – продолжал я [В. – К.Б.], – и мне интересна каждая подробность его жизни» [8, с. 78]. В. приходится восстанавливать жизнь брата, используя собственные воспоминания, произведения покойного, которые, по его мнению, автобиографичны, а также собирая отрывочные сведения и крохи фактов среди лиц, так или иначе соприкасавшихся с Найтом: «По мере того, как я [В. – К.Б.] обдумывал книгу, становилось очевидным, что придется предпринять обширные разыскания, собирая его жизнь по кусочкам и скрепляя осколки внутренним пониманием его характера» [8, с. 50].
Несмотря на то, что это первый роман, написанный В. Набоковым на английском языке, главный герой Себастьян Найт воплощает типично набоковские устремления и представления автора о таланте. Об этом свидетельствует и характер Себастьяна, наиболее яркой особенностью которого является сама форма сознания: разновидность соприродной Цинциннату Ц. способности «объединять» чувственные впечатления. Сравним: у Цинцинната Ц. («Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, – не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, – но главное: дар сочетать все это в одной точке… [выделено мною. – К.Б.]» [9, с. 29]), у Себастьяна Найта («Причина же его неприкаянности <…> состояла попросту в понимании того, что ритм его внутреннего бытия намного богаче, чем ритм всякой иной души. <…> он сознавал, что малейшая его мысль или ощущение содержат на одно измерение больше, чем мысль или ощущение ближнего» [8, с. 78]).
Образ Себастьяна Найта как будто снижается кажущейся холодностью или рассеянностью в общении с людьми: всю свою жизнь он держит брата и maman на расстоянии, ради таинственной незнакомки оставляет Клэр Бишоп.
Объяснение этому следует искать не в эгоизме, а в том, что «он приговорен к благодати одиночного заключения внутри себя самого» [8, с. 61]. По сути, все положительные герои В. Набокова в той или иной степени одиночки и ведут себя так, что порой это может выглядеть как жестокость. Попытки главного героя быть как все, поступать как другие, всегда оборачиваются для него провалом, когда же наконец он понимает, что не способен «уютно вписаться – во что бы то ни было», то принимает решение «пестовать свою обособленность, словно она была редким даром или страстью [выделено мною. – К.Б.]» [8, с. 59]. Поведение Себастьяна есть способ осуществления предназначенной связи с высшим планом бытия, выражающейся в его обостренном сознании и преданности идеалу искусства. Самое главное – это творческий дар главного героя, компенсирующий с лихвой его недостатки.
Себастьян Найт – подлинный художник-творец, создающий из хаоса реальной жизни свою собственную вселенную, в этом он уподобляется Богу: так, например, после написания «Успеха» главный герой высказывается следующим образом: «Нет, Лесли, – с пола говорит Себастьян, – я не умер. Я завершил сотворение мира , и это мой отдых субботний [выделено мною. – К.Б.]» [8, с. 97]. Как правильно заметил И.Н. Толстой, В. Набоков «в по-своему религиозном мире» создает малых творцов, которые «соответствуют Творцу большому мира человеческого. Соответствуют, не дополняя, а целиком подменяя его и не испытывая недостатка в своей творящей силе» [13, с. 8].
Имена написанных им семи книг моделируют творческий портрет, позволяют проследить эволюцию писателя. На протяжении романа они упоминаются повествователем не в том порядке, в каком были «написаны», а в связи с теми или иными воспоминаниями и рассуждениями о брате. Но вместе с тем дается и хронология, которая все-таки позволяет увидеть творчество Найта как динамическую целостность.
Главный герой романа «Лаура и ее оригинал» – д-р Филипп Вайльд, богатый и знаменитый ученый-невролог, «тоже в некотором роде писатель» [7, с. 21]. По словам жены Вайльда, Флоры, он сочиняет «не роман какой-нибудь – тяп-ляп и готово, чтобы <…> кучу денег заработать; это показания сумасброда-невролога, что-то вроде вредоносного опуса, как в том фильме. Оно отняло у него, и еще отнимет, годы трудов, но все это, само собой, держится в строжайшем секрете» [7, с. 21].
Дневник Филиппа Вайльда представляет собой что-то «вроде учебного пособия для желающих научиться <…> безопасному способу самоубийства» [3], в нем описываются эксперименты автора по самоуничтожению, самоистреблению. Воображение собственной смерти главным героем – это своего рода игра, смысл которой – отодвинуть ее в жизни. В своих записях он подчеркивает, что, «ставя опыт на себе самом, с тем чтобы выбрать наиболее приятный способ умереть, нельзя, разумеется, пытаться поджечь часть своего тела, или выпустить из него кровь, или подвергнуть его другой какой-нибудь радикальной операции по той простой причине, что такие меры необратимы: уничтоженного органа уже не восстановишь» [7, с. 65]. Главное для него – это овладеть «таинственным искусством», состоящим в умении прекращать эксперимент и возвращаться «из опасного странствия целым и невредимым» [7, с. 65].
Таким образом, претворенные в словесную форму (в дневник) опыты по самоуничтожению, проводимые Филиппом Вайльдом, предстают в его сознании как победа над смертью, управление ею, поэтому они вызывают у него «упоение, граничащее с восторгом почти невыносимым» [7, с. 62]. Главный герой считает себя творцом не только собственной жизни, но и смерти. Попытка Вайльда обмануть смерть, поиграть с ней заканчивается плачевно. Дописав последнюю главу своего произведения, он умирает: «Рукопись последней главы сочинения Вайльда, которую ко времени его смертельного инфаркта, случившегося за десять кварталов от его машинистки Сью Ю., она еще не успела переписать из-за срочной работы для другого заказчика, была ловко этим человеком изъята у нее из-под рук, с тем чтобы обрести для своего обнародования место более солидное, чем “Вершок” или “Корешок”» [7, с. 57–58].
Рассмотрев несколько романов В. Набокова, мы пришли к выводу, что художественная философия творчества писателя, безусловно, эволюционирует.
Главный герой «Приглашения на казнь» Цинциннат Ц. – начинающий писатель, который сочиняет собственное литературное произведение, чтобы освободиться от оков иллюзорного (как он впоследствии понимает) страха смерти, что ему и удается сделать в конце романа.
В «Подлинной жизни Себастьяна Найта» В. Набоковым показан истинный художник-демиург, который создает в своих произведениях собственную вселенную и в этом уподобляется Богу. В отличие от «Приглашения на казнь», не страх смерти, а сама смерть (Себастьяна Найта) является той причиной, по которой В. решает написать его биографию.
Роман «Лаура и ее оригинал» представляет собой важный шаг в эволюции творческого видения В. Набокова. Главный герой Филипп Вайльд соединяет в себе в равной мере черты как писателя, так и врача-невролога. Дуализм мышления главного героя находит свое отражение и в его дневнике, наполненном как медицинскими изысканиями, так и философскими размышлениями. Заметим, что даже в своих опытах по самоуничтожению Филипп Вайльд проецирует «мысленный образ самого себя на внутреннюю грифельную доску» [7, с. 46] в виде буквы I («я»): «Трижды в них [в имени и фамилии Филиппа Вайльда. – К.Б.] повторяющаяся гласная совпадает в значении с любимым нашим местоимением и таким образом подсказывает изящное решение: одним быстрым движением мелка можно провести посредине поля моего зрения простой вертикальный штрих [ | ], а кроме того, можно разместить легкими поперечными линиями три части тела: ноги, туловище и голову» [7, с. 48]. Эксперименты же главного героя по самоликвидации, претворенные в произведение искусства, свидетельствуют о его желании научиться управлять смертью, чтобы в итоге победить ее.
Список литературы Художник и смерть в творческом осмыслении В. Набокова в романе «Лаура и ее оригинал»
- Александров В.Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика/Пер. с англ. Н.А. Анастасьева. СПб.: Алетейя, 1999. 320 с.
- Александров В.Е. «Потусторонность» в «Даре» Набокова//В. Набоков: pro et contra/Сост. Б. Аверина, М. Маликовой, А. Долинина. СПб.: РХГИ, 1999. С. 375-394.
- Балдицын П.В. «Лаура» Набокова в оригинале и в переводе //URL: http://magazines.russ.ru/october/2010/8/ba14.html. (Дата обращения: 12.04.2013)
- Барабтарло Г.А. Очерк особенностей устройства двигателя в «Приглашении на казнь»//В. Набоков: pro et contra/Сост. Б. Аверина (совместно с М. Маликовой, А. Долининым, Т. Смирновой). СПб.: РХГИ, 1999. С. 439-453.
- Вейдле В.В. В. Сирин. «Отчаяние»//В. Набоков: pro et contra/Сост. Б. Аверина, (совместно с М. Маликовой, А. Долининым, Т. Смирновой). СПб.: РХГИ, 1999. С. 242-243.
- Коннолли Дж.В. «Terra incognita» и «Приглашение на казнь» Набокова: борьба за свободу воображения//В. Набоков: pro et contra/Сост. Б. Аверина (совместно с М. Маликовой, А. Долининым, Т. Смирновой). СПб.: РХГИ, 1999. С. 354-363.
- Набоков В. Лаура и ее оригинал. Фрагменты романа. СПб.: Азбука-классика, 2010. 384 с.
- Набоков В. Подлинная жизнь Себастьяна Найта//Набоков В. Собр. соч. американского периода: в 5 т. СПб.: Симпозиум, 1999. Т. 1. С. 27-191.
- Набоков В. Приглашение на казнь//Набоков В. Собр. соч.: в 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 4. С. 5-130.
- Паперно И. Как сделан «Дар» Набокова//В. Набоков: pro et contra/Сост. Б. Аверина (совместно с М. Маликовой, А. Долининым, Т. Смирновой). СПб.: РХГИ, 1999. С. 491-513.
- Семенова Н.В. Потусторонность смерти и искусства в новелле В.В. Набокова «Лик» //URL: http://eprints.tversu.ru/2186/1/Вестник_ ТвГУ._Серия_Филология._2012._Выпуск_3._С._90-95.pdf. (Дата обращения: 10.02.2015.)
- Смирнова Т. Роман В. Набокова «Приглашение на казнь»//В. Набоков: pro et contra/Сост. Б. Аверина (совместно с М. Маликовой, А. Долининым, Т. Смирновой). СПб.: РХГИ, 1999. С. 829-841.
- Толстой И.Н. Несколько слов о «главном герое» Набокова//Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая Газета, 1998. С. 7-12.
- Ходасевич В.Ф. О Сирине//В. Набоков: pro et contra/Сост. Б. Аверина(совместно с М. Маликовой, А. Долининым, Т. Смирновой). СПб.: РХГИ, 1999. С. 244-250.