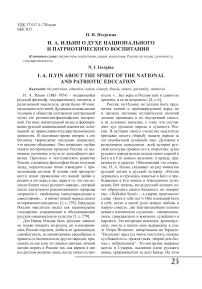И. А. Ильин о духе национального и патриотического воспитания
Автор: Изергина Нина Ивановна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется религиозно-философские идеи выдающего русского мыслителя И. А. Ильина, посвященные проблеме сохранения духовного и национального единства русского народа.
Ю3, патриотизм, воспитание, нация, концепция, Россия, культура, духовность, государственность
Короткий адрес: https://sciup.org/14720716
IDR: 14720716 | УДК: 37.017.4/.7Ильин
Текст научной статьи И. А. Ильин о духе национального и патриотического воспитания
И. А. Ильин (1883–1954) – выдающийся русский философ, государствовед, писатель и религиозный мыслитель, автор более 40 книг, нескольких сот статей. Духовные основы жизни человека и общества составляли центральный пункт его религиозно-философских построений. Он внес значительный вклад в формирование русской национальной идеологии, основанной на православно-государственнических ценностях. В настоящее время интерес к его богатому творческому наследию возрастает, что вполне объяснимо. Оно позволяет глубже понять историческое прошлое России, ее нынешнее состояние и пути ее дальнейшего развития. Прогнозы о постсоветском развитии России, сделанные философом более полувека назад, поразительно точно совпадают с происходящим сегодня. В основе этой прозорливости лежит проявление его живой любви к родине и его веры в нее, веры в то, что «не иссякли благие силы русского народа», который после длительного революционного перерыва «вернется к свободному самоутверждению и самостоянию… и начнет новый период своего исторического расцвета» [1, с. 279]. Грядущую Россию мыслитель видел как национальное государство, сохраняющее и обслуживающее русскую национальную культуру [1, с. 279].
Для Ивана Ильина быть русским значило не только говорить по-русски, но и воспринимать Россию сердцем, любить ее драгоценную самобытность, ее неповторимое своеобразие и хранить от посягательств других народов; принимать ее как одну из главных святынь личной жизни; верить в Россию так, как верили в нее все русские великие люди, все ее гении и стро- ители. «…Без веры в Россию нам и самим не прожить, и ее не возродить» [4, с. 6].
Россия, по Ильину, не должна быть предметом слепой и противоразумной веры, но и научное изучение исторических явлений должно проникать в их внутренний смысл, в их духовное значение, к тому, что составляет дух русского народа и сущность России. В истории своего отечества мыслитель призывал видеть «борьбу нашего народа за его самобытный духовный лик». Духовное и религиозное осмысление всей истории русской культуры привело его к открытию: душа русского народа всегда искала своих корней в Боге и в Его земных явлениях: в правде, праведности и красоте. Обосновывая это открытие, И. А. Ильин указывает на ряд моментов русской жизни и русской истории. «Россия держалась и строилась памятью о Боге и пребыванием в Его живом и благодатном дуновении. Вот почему, когда русский человек хочет образумить своего ближнего, он говорит ему: «Побойся Бога!» – а укоряя, произносит слова: «Бога в тебе нет!» Ибо имеющий Бога в себе, носит в своей душе живую любовь и живую совесть: две благороднейшие основы всякого жизненного служения – священнического, гражданского и военного, судейского и царского. Это воззрение исконное, древнерусское; оно-то и нашло свое выражение в указе Петра Великого, начертанном на Зерцале: “Надлежит пред суд чинно поступать, понеже суд Божий есть, проклят всяк, творяй дело Божье с небрежением”. Это воззрение выражал всегда и Суворов, выдвигая идею русского воина, сражающегося за дело Божье. На этом воззрении воспитывались целые поколения русских людей – и тех, что сражались за Россию, и тех, что освобождали крестьян от крепостного права (на основах, не осуществленных нигде в мире, кроме России), и тех, что создавали русское земство, русский суд и русскую школу предреволюционного периода.
Здоровая государственность и здоровая армия невозможны без чувства собственного духовного достоинства, а русский человек утверждал его на вере в свою бессмертную, Богу предстоящую и Богом ведомую душу…
Но здоровая государственность и здоровая армия невозможны и без верного чувства ранга… Творческая государственность требует еще мудрости сердечной и вдохновенного созерцания, или, по слову Митрополита Филарета… она требует “наипаче таинственного осенения от Господня Духа владычного, Духа премудрости и ведения, Духа совести и крепости”. Этим духом и держалась Россия на протяжении всей своей истории, и отпадения ее от этого духа всегда вели ее к неисчислимым бедам» [4, с. 7–8].
Ильин утверждал духовную силу и светлое будущее русского народа, исходя из многих оснований.
Русский народ доказал свою способность к государственной организации и хозяйственной колонизации, политически и экономически объединив одну шестую часть земной поверхности; создал правопорядок для ста шестидесяти различных племен; доказал свою великую духовную и национальную живучесть, пересилив двухсотпятидесятилетнее иго татар; проведя в оборонительных войнах две трети своей жертвенной жизни, одолел все свои исторические бремена и дал к концу этого периода высший в Европе средний уровень рождаемости: 47 чел. в год на каждую тысячу населения; создал могучий и самобытный язык, столь же способный к пластической выразительности, сколь к отвлеченному парению; доказал свою силу творить новое, свой талант претворять чужое, свою волю к качеству и совершенству, свою даровитость, выдвигая из всех сословий «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» (Ломоносов); выработал на протяжении веков свое особое русское правосознание (русская юриспруденция, со- четающая в себе христианский дух с утонченным чувством справедливости и неформальным созерцанием права); создал прекрасное и самобытное искусство; русскому народу даны от Бога и от природы неисчерпаемые богатства, надземные и подземные, которые обеспечивают ему возможность отстоять свое национальное единство и независимость. Ильин верил в Россию не только по всем этим основаниям, но и потому, что, говоря о России, мысленно обращался к «Божьему замыслу, положенному в основание русской истории, русского национального бытия».
Раскрывая и осуществляя русское своеобразие, мы исполняем наше историческое предназначение, ибо всякое национальное своеобразие по-своему являет Дух Божий и по-своему славит Господа, писал И. А. Ильин. От Бога дан каждому народу «иной, душевный уклад и духовно-творческий акт». Выявляя содержание данных понятий, философ поясняет: каждый народ по-своему вступает в брак, рождает, болеет и умирает; по-своему лечится, трудится, хозяйствует и отдыхает; по-своему горюет, плачет, сердится и отчаивается; по-своему улыбается, шутит, смеется и радуется; по-своему ходит и пляшет; по-своему поет и творит музыку; по-своему говорит, декламирует, острит и ораторствует; по-своему наблюдает, созерцает и творит живопись; по-своему исследует, познает, рассуждает и доказывает; по-своему нищенствует, благотворит и госте-приимствует; по-своему строит дома и храмы; по-своему молится и геройствует... Он по-своему возносится духом и кается. По-своему организуется. У каждого народа свое особое чувство права и справедливости, иной характер, иная дисциплина, иное представление о нравственном идеале, иной семейный уклад, иная церковность, иная политическая мечта, иной государственный инстинкт [1, с. 280].
Вместе с тем идеи германского национал-социализма и советского коммунизма, крайнего национализма и крайнего интернационализма ученый решительно отвергает, подчеркивая их нерусское и нехристианское происхождение.
Христианство принесло миру «идею метафизического своеобразия человека», последовательное развитие которой приводит к идее метафизического своеобразия народа. Христос один во вселенной. Он не для иудеев только и не для эллинов только; но это означает, что признаны и призваны все народы, каждый на своем месте, со своим языком и со своими дарами; каждый народ, как умеет, служит Богу.
Отсюда национализм, по Ильину, есть уверенное и сильное чувство, что мой народ тоже получил дары Духа Святого, что он их инстинктивно приял и творчески претворил по-своему, и что поэтому народу моему подобает культурное «самостояние» как «залог величия» (Пушкин) и как независимость государственного бытия.
Поэтому национализм проявляется прежде всего во вполне оправданном инстинкте национального самосохранения, проявления которого необходимо духовно обосновывать и облагораживать. Этот инстинкт должен жить в душе народа, иметь свои проявления в любви, жертвенности, храбрости и мудрости. Он оправдан потому, что из него возникает национальное единение.
В трактовке И. А. Ильина национализм представляет собой системное явление. Он включает такие взаимосвязанные элементы, как любовь к историческому облику и творческому акту своего народа во всем его своеобразии; веру в инстинктивную и духовную силу своего народа, веру в его духовное призвание; волю к свободному и творческому развитию своего народа; созерцание талантов, исторической проблематики, опасностей и соблазнов своего народа; систему поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого созерцания.
Вот почему национальное чувство – это духовное состояние, ведущее человека к служению и жертвам, а народ – к духовному расцвету. Национальное чувство – это и источник достоинства, и источник единения, которое спасло Россию во все трудные часы ее истории, и источник государственного правосознания, объединяющего всех в живое государственное единство.
Творческий человек творит всегда от лица своего народа и обращается прежде всего к своему народу, так как творческий акт не изобретается каждым человеком для себя, но вынашивается целым народом на протяжении веков. Только тот, кто утвердился в творческом акте своего народа, может создать нечто прекрасное для всех народов.
Итак, национализм, согласно Ильину, есть здоровое и оправданное настроение души [1, с. 281–283].
Оправдывая и обосновывая национализм, ученый одновременно признает наличие извращенных форм национального чувства и национальной политики. Различные виды извращенного (больного) национализма возникают из сочетания ошибок двух типов: 1) национальное чувство прилепляется к неглавному в жизни и культуре своего народа; 2) оно превращает утверждение своей культуры в отрицание чужой.
Когда национализм отрывается от духа и духовной культуры народа, отрывается от смысла и цели народной жизни, он становится инстинктивным настроением, подвергаясь опасностям жадности, безмерной гордыни, ожесточению и свирепости. Есть государства, националисты которых удовлетворяются успехами своего народного хозяйства (экономизм), или мощью своей государственной организации (этатизм), или же завоеваниями своей армии (империализм). Русское национальное самосознание до конца XIX в., отмечает Ильин, не впадало в соблазны экономизма, этатизма и империализма; русский народ признавал главным делом свою веру; и русские войны велись ради сохранения нашей духовной и вероисповедной самобытности и свободы. В течение веков отличительной чертой русскости считалось православие, которое внушило нам идею «святой Руси», признающей свою веру главным делом и отличительной особенностью своего земного естества, подчеркивал философ.
Презрение ко всему иноземному ведет народы к мании величия, «завоевательному буйству» (шовинизму). Русскому народу это несвойственно из-за его простодушной скромности, природного юмора, многонационального состава России, строгого суда над собой и готовности учиться у других народов (особенно со времен Петра Великого). «Русский национализм проходил – и во внутреннем замирении своей страны и во внешних войнах – суровую школу уважения к врагам: и Петр Великий, умевший “поднимать заздравный кубок” “за учителей своих” – проявлял в этом исконную русскую черту – уважения к врагу и смирения в победе» [2, с. 285].
Ильин отмечал в допетровском национализме черты, которые могли привести к развитию национальной гордыни и повредить России. Они выражались в «иррациональном самочувствии» русского народа: перенимать у других нам ничего нельзя, смешиваться с другими грешно и изменяться нам не в чем. По мнению мыслителя, подобный «консерватизм и провинциализм церковно-национального самочувствия и самомнения санкционировали неподвижность быта и сознания». Духовная инерция народа стала опасной, и именно Петр Великий понял, что вера Христова не может быть причиной сохранения отсталых форм хозяйства, быта и государственности: «Православие не может санкционировать такой уклад сознания, такой строй и быт, которые погубят народную самостоятельность и предадут врагам и веру, и церковь», ибо «народ, отставший в цивилизации, в технике и знаниях, будет завоеван… и не отстоит… свою правую веру» [2, с. 286]. Огромную заслугу Петра Великого русский философ видел в том, что он отделил национальное от вероисповедно-церковного (христианство не может и не должно быть источником обскурантизма и национальной слабости) и благодаря этому началась новая эпоха русского национального самосознания.
Новый путь русского национализма Ильин определил следующим образом: открыть себе доступ к светской цивилизации и светской культуре; внести религиозноправославный дух, дух любви и свободы, в свою новую национально-светскую культуру и национально-светскую цивилизацию; сформулировать русскую национальную идею. Разрешением этой задачи необходимо заниматься и сегодня, создавая новый синтез между православным христианством и светской цивилизацией и культурой. В качестве методологической основы для решения этой сложной проблемы Иван Ильин предлагал различать в культурном творчестве церковное и религиозное, церковное и национальное.
Он писал, что Церковь и религиозность не одно и то же. Церковь есть хранительница, живое средоточие религии и веры. Она не поглощает нации, государства, науки, искусство, хозяйство, семью и быт. Православная церковь молится, учит, святит, благодатствует, вдохновляет, исповедует и, если надо, обличает, но она не властвует, не регламентирует жизни, не карает светскими наказаниями. Ее авторитет основан на качестве ее веры, ее молитвы, ее учения и ее дел. Она способствует свободному проникновению религиозного духа в жизнь и во все жизненные дела народа. Излучаемый Церковью религиозный дух должен облагораживать и очищать всю светскую деятельность людей, утверждает философ.
Отличие церковного от национального Ильин видел в том, что нация как единение людей с единым национальным актом и культурой включает в себя людей разной веры, и разных исповеданий, и разных церквей. Тем не менее русский национальный акт и дух исторически определился духом православия, и к этому русскому национальному акту более или менее приобщились почти все народы России.
Таким образом, идея русского национализма, в понимании Ильина, предстает как нерасторжимое единство любви к исторически сложившемуся духовному облику и акту русского народа; веры в наше призвание и данные нам силы; воли к нашему расцвету; созерцания нашей истории, нашего исторического задания и путей, ведущих к этой цели; постоянной работы ради самобытного величия России; утверждения своего и создания нового на основе христианства любви, созерцания и свободы без отрицания и презрения к чужому [2, 289–290].
Важным заданием русского национализма, не разрешенным до настоящего времени, является определение русской идеи. Подходы И. А. Ильина к данной проблеме имеют методологическое значение. Он полагал, что русскую идею не нужно выдумывать и у кого-либо заимствовать. Она должна выражать русское историческое своеобразие, т. е. то, что составляет «благую силу» народа и его самобытность. Она должна выражать русское историческое призвание и указывать наш духовный путь, то, что мы должны растить в себе и воспитывать в наших детях. Религиозным источником русской идеи мыслитель считал идею православного христианства. Поэтому основной смысл сформулированной им русской идеи таков: осуществить свою национальную земную культуру, проникнутую христианским духом любви и созерцания, свободы и предметности [3, с. 331].
Русская идея, по Ильину, утверждает, что главное в жизни есть любовь, которой строится совместная жизнь на земле, из нее родится вера и вся культура духа. Любовь является основной духовно-творческой силой русской души; без нее русский человек – «неудавшееся существо», он или лениво прозябает, или склоняется к вседозволенности. Без веры русский человек становится «пустым существом без идеала и цели».
Первое проявление русской любви и русской веры есть живое созерцание, потребность «увидеть любимое вживе… и потом выразить увиденное поступком, песней, рисунком или словом». Созерцание призвано быть свободным и предметным. Другими словами, нам нужно заботиться о верном восприятии и выражении божественного по-своему, чтобы это «наше и по-нашему созданное было на самом деле верно и прекрасно, т. е. предметно». Вместе с тем Ильин подчеркивал, что в будущем нам предстоит вырастить из свободного сердечного созерцания «свою особую, новую русскую культуру воли, мысли и организации».
Самобытность русского народа состоит в том, чтобы выращивать вторичные силы русской культуры (волю, мысль, форму и организацию) из ее первичных сил (из сердца, из созерцания, из свободы и совести). Самобытность русской души и русской культуры выражается именно в этом распределении ее сил на первичные и вторичные: первичные силы являются определяющими.
Согласно этому и русская религиозность, и русское искусство, и русская наука, и русское право и правоведение должны оберегать себя от формализма, снобизма, подражательства, духовной слепоты, релятивизма и нигилизма. И новый государственный строй России должен быть таким, чтобы «сердца по-новому прилепились бы к родине и по-новому обратились к национальной власти с уважением и доверием» [3, с. 323–331].
В своих многочисленных исследованиях, в том числе в работе «Путь духовного обновления», Ильин убедительно показывает совместимость патриотизма и национализма с духом христианства.
Он устанавливает не только «инстинктивную необходимость и эмпирическую целесообразность» патриотического настроения, отмечая, что его первые проблески возникают из солидарности человека со своими ближними, к которой человека подталкивают беда, опасность и страх. Философ вскрывает также «духовную и религиозную правоту патриотизма», показывая, что любовь к родине есть «творческий акт духовного самоопределения, верный перед лицом Божиим и потому благодатный».
Родина для Ильина есть предмет, который может быть воспринят, пережит и приобретен только любовью. По-видимому, этот патриотический опыт приходит к людям как бы сам собой; они естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, к природе, к соседям и культуре своей страны, к быту своего народа. «Но именно поэтому, – объясняет мыслитель, – духовная сущность патриотизма остается почти всегда за порогом их сознания» [4, с. 261]. Тогда любовь к родине живет в душах в виде неразумной, предметно неопределенной склонности, которая незаметно может стать «презрительной гордыней, буйной и агрессивной ненавистью», «воинствующим шовинизмом и тупым национальным самомнением».
Иван Ильин признает, что патриотизм слепого инстинкта лучше, чем отсутствие какой бы то ни было любви к родине. Однако в современных условиях чисто инстинктивный патриотизм (националистическая гордыня и жажда завоеваний) весьма опасен. Сегодня человечество особенно нуждается в духовно осмысленном и христиански облагороженном патриотизме, который совмещал бы «страстную любовь и жертвенность с мудрым трез-вением и чувством меры, – ибо только такой патриотизм сумеет разрешить целый ряд ответственных проблем, стоящих перед современным человечеством...» [4, с. 262].
В здоровой жизни человека инстинкт и дух вообще не оторваны друг от друга: но степень их взаимной согласованности бывает неодинакова. Патриотизм всегда инстинктивен. Но он не всегда духовен. Отсюда возникает задача достичь истинного патриотизма, т. е. взаимного проникновения инстинкта и духа в обращении к родине.
Как же это достигается и осуществляется?
Идея родины, пишет философ, предполагает в человеке живое начало духовности. Обретение родины есть акт духовного самоопределения, предполагающий, что сам человек живет духом. В отрыве от духа ни территория, ни климат, ни географическая обстановка, ни пространственное рядом – жительство людей, ни расовое происхождение, ни привычный быт, ни хозяйственный уклад, ни язык, ни формальное подданство не составляют родину. Патриотизм может сложиться при отсутствии любого из этих компонентов. Природные, исторические, кровные и бытовые связи могут и должны приобретать то духовное значение, которое делает их достойным предметом патриотической любви. Они должны становиться верным знаком национального духа и необходимым ему материалом. Вопрос о родине решают кровь как носительница духовной традиции; территория, необходимая для расцвета русской национальной духовной культуры. Следовательно, вопрос о родине решается «любовью к национальному духу», к сущности, а не простой приверженностью к внешней обстановке и к формальным признакам быта. Истинный патриот признает действительное достоинство, присущее его родине, любит то, что на самом деле заслуживает любви, и потому он прав в своем служении родине. Родину не находит тот, кто не ищет божественного в земном. Родина воспринимается духовным опытом.
Духовный опыт у людей различен, и источником патриотизма может быть природа или искусство родной страны; религиозная вера народа; национальная нравственность; величие государственных судеб родного народа; энергия его благородной воли; свобода и глубина его мысли и т. д. Значит, нет единого для всех людей одинакового пути к родине, но все духовные пути, при всем их различии, ведут к ней. Настоящим патриотом становится человек, совершающий «акт духовного самоопределения», т. е. отождествляющий «свою судьбу с духовной судьбою своего народа, свой инстинкт с инстинктом всенародного самосохранения». Настоящий патриот, указывает Ильин, любит именно народ, ведущий духовную жизнь; ибо народ, духовно разложившийся, не есть сама родина, но лишь ее живая возможность («потенция»). Истинному патриоту драгоценна не просто самая «жизнь народа» и не просто «жизнь его в довольстве», но именно жизнь подлинно духовная и духовно-творческая. Вот почему и все условия национальной жизни, и земля, и природа, и хозяйство, и организация, и власть важны истинному патриоту как данные для духа, созданные духом и существующие ради духа.
Истинный патриот не делает из территории, или хозяйства, или богатства, или даже простой жизни многих людей некий фетиш и не отрекается ради него от главного и священного – от духовной жизни народа. Именно духовная жизнь есть то, за что и ради чего можно и должно любить свой народ, бороться за него и погибнуть за него. Духовная жизнь любого народа есть богослужение, которое должны чтить и охранять и все другие народы навеки. В качестве исторического примера, убеждающего, что духовная жизнь иных народов действительно чтится всеми людьми через века, И. А. Ильин напоминает о Ветхом Завете, о греческой философии и греческом искусстве, о римском праве, об итальянской живописи, о германской музыке, о Шекспире и о русской изящной литературе XIX в. [4, с, 275].
Несмотря на то что патриотическое чувство иррационально по переживанию, оно подчинено определенным «инстинктивнодуховным формам и законам». В их числе философ выделяет следующие.
Обретение родины должно быть пережито каждым из людей «самостоятельно и самобытно», ибо «любить, и радоваться, и творить по предписанию вообще невозможно». Патриотизм как духовное состояние может возникнуть только автономно (свободно) – «в личном, но подлинном и предметном духовном опыте». Внешнее принуждение может привести к симуляции, а не к воспитанию в душе чувства родины.
Настоящий патриотизм нужно не навязывать, а «пробуждать» в ребенке. Для этого сам воспитатель должен быть искренним и убежденным патриотом и уметь показывать детям то прекрасное в родине, что действительно заслуживает любви.
В патриотическое единство связывает людей единый «национально-духовный уклад», специфические особенности народа в творчестве и особенно в духовном творчестве. Сходство в духовной жизни ведет к интенсивному общению, порождая новые достижения и «новое уподобление». Самое глубокое единение, по Ильину, есть одинаковое созерцание единого Бога. К такому единению, по его мнению, и приближается истинный патриотизм. В этой связи он поясняет, что это не значит, что все люди должны быть одного религиозного исповедания и принадлежать к единой церкви. «Патриотическое единение, – пишет Ильин, – есть разновидность духовного единения; а поклонение Богу есть одно из самых глубоких и сильных проявлений человеческого духа» [4, с. 280].
Народ, создавший свою духовную культуру, является как бы «сосудом и органом божественного начала». Каждое духовное достижение народа входит в систему национальной духовной культуры, служащей источником личного духовного творчества. Поэтому творчество национального гения содержит ту мощь, «ради которой страдали целые поколения в прошлом; и от этой мощи исходит и будет исходить духовная помощь и радость для целых поколений в будущем». Гений становится истинным «зиждителем» родины, так как «оформляет духовную жизнь и завершает духовное творчество своего народа» [4, с. 283].
Любовь к родине есть одновременно и вера в нее; вера в то, что народ справится со всеми историческими испытаниями. При этом настоящий патриот учится на политических ошибках своего народа, на недостатках его характера и его культуры, на исторических крушениях и на неудачах его хозяйства. Но его критика «любовная, озабоченная, воспитывающая, творческая и созидательная»; она внушает «мужество и волю к преодолению своих слабостей».
Отчаяние в своем народе противоестественно; человеку следует всегда соблюдать достоинство своего народа, гордиться его признанием, его величием и его успехами. Человек, лишенный идеи родной нации, будет обречен на духовное сиротство или безродность, ибо в силу закона человеческой природы и культуры «все великое может быть сказано человеком или народом только по-своему, и все гениальное родится именно в лоне национального опыта, духа и уклада» [4, с. 289].
Глубокий, духовно верный, творческий национализм необходимо прививать людям с раннего детства. С этой целью надо делать так, чтобы все прекрасное, впервые пробуждающее дух ребенка, вызывающее в нем умиление, восхищение, преклонение, чувство красоты, чувство чести, любознательность, великодушие, жажду подвига, волю к качеству, было национальным, у нас в России – национально-русским.
В особенности следует обогащать детей сокровищами языка, песни, молитвы, сказки, образцов национальной святости и национальной доблести, поэзии, истории, армии, территории, хозяйства.
Особенно важно, отмечал русский мыслитель, чтобы пробуждение самосознания и личностной памяти ребенка (обычно – на третьем-четвертом году жизни) совершилось на его родном языке. Поэтому не следует учить его чужим языкам до тех пор, пока он не заговорит связно и бегло на своем национальном языке. Это относится и к чтению. В семье должен царить культ родного языка: все основные семейные события, праздники, обмен мнениями должны протекать по-русски; очень важно частое чтение вслух Священного Писания и русских классиков, по очереди всеми членами семьи хотя бы понемногу; очень важно хотя бы элементарное ознакомление с церковнославянским языком; существенны семейные беседы о преимуществах родного языка – о его богатстве, благозвучии, выразительности, творческой неисчерпаемости, точности и т. д.
Ребенок должен слышать русскую песню еще в колыбели. Пение помогает рождению и изживанию чувства в душе. Через русскую песню ребенок должен бессознательно усваивать «русский строй чувств и особенно духовных чувствований». По глубине, искренности, сладостности русскую песню философ сравнивал с человеческим страданием, молитвой, любовью и утешением. Она не даст детской душе озлобиться. Ильин считал необходимым по всей стране создавать детские хоры, устраивать съезды русской национальной песни.
С первых лет жизни надо вдохнуть ребенку самобытную молитву, которая даст ему духовную гармонию, источник русской духовной силы. Неправославный может быть верным русским патриотом и доблестным русским гражданином; но человек, враждебный православию, не найдет доступа к священным тайникам русского духа и русского миропонимания, он останется чужеродным в стране, подчеркивает Иван Ильин.
Без национальной сказки, вобравшей страдание, юмор и мудрость народа, национальное воспитание будет неполно. Она дает ребенку первое чувство героического – чув- ство испытания, опасности, призвания, усилия и победы; она учит его мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие «правды и кривды». Приобщение к чужеземным сказкам вместо родных, предупреждал Ильин, приведет к отрыву от своего народа.
Указывая на жития святых и героев как на сокровище национального воспитания, философ подчеркивает, что образы святости пробудят совесть ребенка, она вызовет в нем чувство соучастия в святых делах, даст его сердцу уверенность, что «наш народ оправдался перед лицом Божиим» и он имеет право на почетное место в мировой истории. Образы героизма пробудят в нем волю к доблести, жажду подвига и служения, готовность терпеть и бороться; непоколебимую веру в духовные силы своего народа. Все это вместе взятое есть настоящая школа русского национального характера.
Поэзия заставляет душу прислушиваться к сокровенной жизни вещей и людей, побуждает ее искать законы и формы, учит ее духовному восторгу. Русский поэт одновременно – национальный пророк и национальный музыкант. И русский человек, с детства влюбившийся в русский стих, никогда не денационализируется. Ильин ратует за необходимость открывать ребенку по мере взросления доступ ко всем видам национального искусства.
Русский ребенок должен с самого начала почувствовать и понять, что он сын великого русского народа, имеющего за собой величавую и трагическую историю, перенесшего великие страдания и крушения и не раз достойно выходившего из них. История русского народа должна восприниматься как источник мудрости и силы. Мы должны прочувствовать окрыленные слова Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». При этом национальное самочувствие ребенка должно быть ограждено от двух опасностей: от националистического самомнения и от всеосмеиваю-щего самоунижения. Историк сможет быть истинным национальным воспитателем, если способен видеть судьбу, понимать путь, любить и верить в призвание своего народа.
Ребенок должен научиться переживать успех своей национальной армии как личный успех. Сердце человека вообще принадлежит той стране и той нации, чью армию он считает своей. Без армии, стоящей духовно и профессионально на надлежащей высоте, родина остается без обороны, государство распадется и нация сойдет с лица земли.
Русский ребенок должен понять, что народ живет на земле и от земли и что территория необходима ему, как воздух и солнце. Он должен почувствовать, что русская национальная территория добыта кровью и трудом, волей и духом, что она уже освоена и еще недостаточно освоена русским народом. Русский человек должен знать и любить жителей, богатства, климат, возможности своей страны.
Ребенок должен с раннего детства почувствовать творческую радость и силу труда, его необходимость, его почетность, его смысл. Он должен внутренне испытать, что труд есть источник здоровья и свободы. В русском ребенке должна проявиться склонность к добровольному творческому труду. Тогда в нем пробудится интерес к русскому национальному хозяйству, воля к русскому национальному богатству как источнику духовной независимости и духовного расцвета русского народа. Пробудить в нем все это, по мысли Ильина, значит заложить в нем основы «хозяйственного патриотизма» [4, с. 291–297].
Таков, в понимании Ивана Ильина, дух национального воспитания, необходимый русскому и каждому здоровому народу. Только на этом пути человечеству удастся соблюсти священное начало родины и в то же время одолеть соблазны больного национализма.
Истинный патриот любит дух своего народа. Каждое истинно духовное достижение – достояние общечеловеческое. Но постигнуть дух других народов, по глубокому убеждению Ильина, может только тот, кто утвердил себя в духе своего народа. Поэтому «сверхнационализм» не отрицает национализма и патриотизма, но сам вырастает из него.
Истинный патриот стремится понять и усвоить духовные достижения других народов, чтобы приобщить к ним свой народ, чтобы обогатить ими его жизнь, восполнить ими его творчество. В то же время философ указывает на «творческую меру» в духовном общении и взаимодействии народов: не отвергать всякое иноземное влияние, но и не «наводнять свою культуру полою водою иноземщины».
Вот почему так называемый «христианский интернационализм» он считал искусственной выдумкой, выдвигаемой, возможно, «для того, чтобы один народ мог успешнее разложить, завоевать и покорить другой народ...». Нелепым он считал и предположение, что «русский народ» есть какой-то особенный «вселенский» народ, который призван не к созданию своей содержательно-самобытной культуры, а к претворению и ассимиляции всех чужих, иноземных культур. Самобытность каждого народа не может состоять в сочетании отовсюду заимствованных черт; «она возникает из инстинктивнодушевного своеобразия и из самостоятельного восприятия природы, людей и Бога, а не из заимствования отовсюду чужого достояния». Правда, не всякому народу удается выносить самостоятельный духовный акт. Народы, которым удалось создать самобытную духовную культуру, являются духовно ведущими народами; народы, которым это не удалось, становятся духовно ведомыми народами. Задача ведущего народа – дать ведомому возможность приобщиться к своему «духовному акту и к духовной культуре», так, чтобы ведомый народ нашел свою родину в лоне ведущего народа, не теряя своей исторической и биологической «национальности». Формулу такого патриотического «симбиоза» народов философ выражает так: «Я англичанин, и притом африканский негр»; «я русский, и притом калмык».
Единение человека с его народом слагается обычно в форму правовой связи и принимает вид государственного единения. Вследствие этого национализм и патриотизм живут в душе в теснейшей связи с государственным правосознанием. Для человека с естественным правосознанием любовь к своему отечеству не приводит к отрицанию естественного права на существование и на духовный рост у других народов. Народы при всех условиях призваны видеть друг в друге «субъектов естественного и международного права»; рассматривать свои взаимные споры, как «споры о праве». Только при таком понимании дела – национализм, обоснованный духовно, будет постепенно преодолевать в себе свой опасный шовинистический уклон, ибо «отстаивание своего совсем не означает завоевание чужого». Столкновение народов есть, по существу своему, столкновение правовых притязаний, в основе которого лежит различное понимание и толкование естественных прав, принадлежащих народам. Такое столкновение требует правового регулирования. Поэтому философ надеялся на то, что война все более будет приобретать для воюющих значение «хозяйственно-политического и социально-культурного самоубийства»; и поэтому в дальнейшем будет возрастать тяготение к правовому разрешению международных споров. Духовное назначение войны в истории человечества он видел в том, чтобы убедить людей в естественности и необходимости правового пути.
Общий вывод из всего изложенного, имеющий методологическое значение для национального и патриотического воспитания, состоит в следующем утверждении Ильина: нет человека и нет народа, который был бы «единственным» средоточием духа, ибо дух живет по-своему во всех людях и во всех народах. Истинный патриотизм и национализм есть зрячая любовь, которая не чужда добру, и справедливости, и праву, и, главное, Духу Божию, но есть одно из высших проявлений духовности на земле [4, с. 297–307].
Список литературы И. А. Ильин о духе национального и патриотического воспитания
- Ильин И. А. О русском национализме/И. А. Ильин//Наши задачи. -М.: Рарог, 1992. -В 2 т. -Т. 1. -С. 279-283.
- Ильин И. А. Опасности и задания русского национализма/И. А. Ильин//Наши задачи. -М.: Рарог, 1992. -В 2 т. -Т. 1. -С. 285-290.
- Ильин И. А. О русской идее/И. А. Ильин//Наши задачи. -М.: Рарог, 1992. -В 2 т. -Т. 1. -С. 323-331.
- Ильин И. А. Почему мы верим в Россию: Сочинения/И. А. Ильин. -М.: Эксмо, 2006. -С. 6-307.